
Борис Попов
Красный бант

Повесть
ЗАПАДНОСИБИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСК 1974
Найденное детство
(от автора)
По бору, примыкавшему к окраине большого сибирского города, шел седой человек. Он часто останавливался, подолгу вглядывался то в сосны, то в укатанные мотоциклами тропки. Пройдет по какой-нибудь дорожке метров полсотни, а потом свернет в сторону и по соседней идет обратно.
Странного пешехода заметили ребята, гонявшие футбол на лесной поляне. На грибника не похож: ни посошка, ни лукошка или хотя бы нейлонового мешочка. К тому же в сухом бору нет ни единого, даже червивого грибка. Кто-кто, а они уж знали это очень хорошо.
— Вы что-нибудь тут оставили? Ищете?
Седой человек вздрогнул от неожиданных мальчишечьих вопросов.
— Угадали, ребята. Ищу.,,
— Может быть, вам помочь? Вы только скажите, что ищете, а мы сейчас в цепочку и...
—> Спасибо, ребятки. Но вряд ли вы и цепочкой поможете. Детство тут оставлено..,
— Детство? Чье? Какое?
•— Свое. А какое — рассказ длинный-
— А вы расскажите нам хоть немножко, хоть и не все.
Седой человек задумался.
Он снова поискал что-то глазами, потом подошел к старому, почерневшему широкому пню и сел на него. 'Ребята уселись вокруг. И пошел рассказ-разговор:
о том, что эта поляна — остаток когда-то шумного и зимой и летом борового тракта, по которому вереницами шли конные обозы;
о том, что в бору уже нет ни одной сосны из тех. на которые он лазил, и даже пней от них, вроде вот этого,
что под ним,—-раз, два и обчелся, а стоят другие сосны — лет по 50—60, его сверстницы;
о том, что нет уже и пригородной заимки, и стоявшего недалеко от речки отцовского дома с огородом,— протянулись на этом месте новые городские кварталы.
Потерялись следы детства. Стерли их годы. А воспоминания живут. Не стираются.
...Вот он и его друзья — еще мальчишки. Такие же, как сейчас, слушающие его и задающие настырные вопросы.
Мальчишки-то во все времена, хоть и сто лет назад, хоть и через сто лет вперед, все равно были и будут мальчишками.
Меняется жизнь вокруг,-приходят новые понята, интересы, увлечения, игры, а мальчишки остаются. мальчишками.
Терпеть не могут слова «нельзя».
Уважают силу, ловкость и храбрость, прямоту а находчивость, уменье дружить и держать свое слово.
Презирают трусость, фискальство, заносчивость, жадность.
Во времена его детства летом главной игрой были забытые теперь бабки. Зимой — железные коньки вызывали зависть. Большинство-то каталось на деревянпых колодках-лодочках, привязанных к пимам верееками на закрутках. Но это не мешало устраивать бега на скорость и часами носиться по накатанному тракту, цепляться специально сделанными палками-крюками за сани обозников и с визгом увертываться от их кнутов. Не брал мальчишек ни мороз, ни ветер, хоть у многих и выпирали из рваненьких штанов голые, посиневшие коленки.
Вершина счастья и гордости летом и зимой — проехать верхом на коне. Конечно, без седла — охлюпкой. Сокровенная высшая мечта — стать шофером. Вот тогда уж можно будет сколько хочешь ездить на автомобилях. Только что появилось в городе тогда это чудо...
Теперь все другое... Сравнивать трудно с тем, что было.
Игры — футбол и хоккей.
И не такая уж несбыточная мечта даже школа космонавтов.
А вот он помнит время, когда был еще царь. Император. «Самодержец всея Руси». И портреты его помнит: такой щупленький, с рыжей бородкой, завернутый в горностаевую мантию, похожую на белое одеяло с черными хвостиками. Помнит и то, как в феврале семнадцатого года в городе жгли эти портреты, а с подъездов учреждений и магазинов сковыривали и ломали царские гербы — двуглавых орлов.
И самую первую свободную первомайскую демонстрацию тоже помнит. И как на нее рабочие — железнодорожники, пимокаты и овчинники — вышли с лозунгом «Вся власть Советам!». А на другой год летом против новой, Советской власти восстали белые, контрреволюционеры, и Сибирью стал править царский адмирал Колчак и его приспешники.
Колчаковщину, ее начало, кровавый режим и бесславный конец помнит особенно ясно. Ведь он и его друзья были тогда мальчишками и часто видели даже такое, чего не замечали взрослые. Они не меньше своих отцов и матерей ненавидели карателей-колчаковцев и тоже не хотели сидеть сложа руки, а стремились что-то делать. И, может, не всегда так, как нужно, но все же делали...
Ребята гурьбой проводили седого человека до края бора. На прощанье они махали ему руками и кричали:
— А все-таки мы помогли, да? Вы ведь, хоть и не всё, а нашли! Думаете, не поняли — кто вы? Напишите об этом книжку!
Седой человек в ответ махал им шляпой, а сам думал: «Может, и вправду взяться?»
Так родился замысел этой маленькой повести..
Шишка контрику
Когда Алешка с кузовком в руке прибежал из Гулыбинки в станционный поселок и, запыхавшись, остановился у домика Гуриных, Андрейка сидел на крыльце и угрюмо строгал рогатку для праща. Даже поздоровался нехотя.
— Мать дома?
— Ушла. Передачу понесла.
Алешка с досады ударил пяткой о землю.
— Зря целых три версты взапых бежал! Куда ж теперь мне это девать? — и покрутил кузовком.
— А что там у тебя?
— Бабушка шанежек напекла да еще чего-то настряпала, а мама разбудила: «Отнеси-ка бегом к тете Зине для Тимофея Максимыча». Ну, я и понесся! Может, еще успеем. Ты там все знаешь.
Андрей насупился:
— Мне теперь туда нельзя. — Это почему?
— Вчера около тюрьмы в одного контрика из праща саданул, ну и...— Он со злостью плюнул под ноги.— Резины жалко. Красная была. Натяжливая.
— У меня есть. Осталась. Может, и вырежем.
— Ну?! — Друг повеселел.
— Как было-то, расскажи.
Андрейка снова нахохлился, как воробей зимой:
— А чего рассказывать?.. Надавали... Тетки... которые в очереди. Да мать еще. И дома добавила. А пращ
6 в печке сожгла.
— Это почему же? В контрика запулил, а свои всыпали.
У Андрейки покраснели уши. Он вскочил:
— Почему, почему?! Так мне, дураку, и надо! Теперь голодный останется!
Алешка тоже вскочил:
— Не ори! Кто голодный?
Андрейка как-то сразу остыл и с трудом выговорил:
— Батя. А с ним и другие... Всех, кто с передачами, разогнали.
Алешке стало стыдно за то, что так некстати накричал на друга, и он, смотря в сторону, спросил:
— Ты по порядку можешь? Тогда говори все. А произошло это все так.
...Было сумеречное утро. Моросил противный дождик. А напротив задних ворот городской тюрьмы накапливалась толпа женщин с кошелками и узелками в руках. Узелки и кошелки называются — «передача». Близко к воротам подходить нельзя. Сразу же с вышек над двухсаженным забором с натянутой поверху щетинистой проволокой выставят винтовки караульные солдаты и закричат: «Осади на сорок шагов! Пули захотели?!»
Женщины терпеливо ждали. Мокли, дрогли, а ждали, когда рядом с воротами откроется боковая дверка, в которую можно будет передать, что принесли для мужей, братьев, товарищей — тех, кто там, за колючей оградой.
Когда откроют дверку? Через час? Через три? Никто не знает. Вместе со всеми ждали Андрейка и его мать. Женщины жались друг к другу. Будто подпирали плечо плечом. А глаза у всех смотрели туда, выше забора, на окна тюрьмы...
Андрейка тоже вместе со всеми смотрел и смотрел на решетки. Ведь где-то в этом кругом запечатанном доме —отец. И сидит он в нем не зато, что кого-то убил
или еще за что-нибудь плохое, а потому, что большевик. Красный. Он всегда и всюду говорил людям правду,
Совсем недавно, пока город не захватили белогвардейцы, отец был членом городского Совдепа*. Его, Тимофея Турина, уважали все рабочие — железнодорожники станции: такие же, как он, машинисты паровозов, деповцы, смазчики, стрелочники. Приходили к ним в дом, о чем-то горячо спорили, но когда начинал говорить отец, успокаивались и внимательно слушали, И Андрейка гордился отцом, А вот на тебе! Посадили беляки в тюрьму, морят голодом. Тут делать что-то надо, действовать! Но пока рождались только одни мечты: вдруг поднимаются все рабочие, все отцовские товарищи, с винтовками и красными флагами идут громить ненавистную тюрьму, а с ними и Андрейка. Он первый срывает замок с железных дверей, распахивает их и кричит: «Батя, выходи!»
...А дождь все моросил и моросил. И совсем вымокли и мать, и все женщины, да и сам Андрейка, Только к полудню, когда рассеялись тучи, открылась, наконец, тюремная калитка и из нее высунулся один из тюремщиков:
— Которые с передачами —подходи.
Мать в очереди стояла близко, но сдать кошелку ей не пришлось,
На улице, против тюрьмы, откуда-то шедший взвод солдат встретился с черной пролеткой, в которой сидел , щуплый офицер, куражливо размахивавший в разные стороны стеком — тросточкой с кожаной петелькой на конце.
— Ч-что з-за часть?
С обочины дороги к пролетке подскочил старший солдат — грузный унтер, вытянулся и взял под козы» рек:
8 * Совета рабочих и крестьянских депутатов.
— Взвод особой роты, согласно приказу прибыл к месту назначения для несения внутренней и внешней службы.
Офицер закивал головой:
— Одобр-ряю! Пр-равильно! Действуйте и по внутренней и п-по внешней!
По очереди пробежали тихие слова: «Конвойники пришли... значит, брать будут кого-то...»
Офицер повернулся и ткнул стеком в сторону людей около тюремной калитки:
— А эт-то что за сер-рые тени? Унтер отрапортовал:
— Жены и родственники. Питание сидящим...
— П-понятно.— И офицер под гоготок конвойников обратился к очереди:—Что, мокр-рые кур-рицы, боль-шевичков своих, совдеповцев, подкармливать пришли? Щей-то наварили, да поостыли они, наверное, а? Ничего, усп-покойтесь! Скоро отдохнете — варить будет нек-кому!
Вот тогда Андрейка и не вытерпел. Он выхватил рогатку, и красная резина сработала точно. Офицер схватился за скулу и с перепугу было заверещал:
— Стре-ляют!! — Но тут же, хоть и был пьян, заорал по-командирски: — Р-разогнать эту свору! — Хлестнул стеком по спине кучера, и пролетка рванулась по улице. Конвойные бросились на очередь и растолкали ее прикладами.
За углом Андрейке перепало от женщин, а от матери больше всего.
Передачи принимать перестали. И когда теперь снова начнуть принимать — никто не скажет.
...Алешка потолкал пальцем кузовок и сожалеюще протянул:
— Зачерствеют шанежки.— А потом, чтобы как-то успокоить друга и отвлечь от тяжелых мыслей, предложил:— Сходим на станцию, к вокзалу.
-— А что там делать? Поездов не видели?
— Ну, тогда давай на Сенной сбегаем. Андрейка немного оживился: — На Сенной? Пошли.
Балалайка без струны
Сенной, или, как его называв ли по-другому, Конный базар,^-одно из самых шумных мест в городе.
Летом сеном не торгуют, и половину площади занимают цирковые балаганы и карусели. Остальная часть и на лето остается для разномастных лошадей, для суетливых, горячих цыган в бархатных жилетках и перекупщиков— широкобородых конных прасолов со шныряющими глазами.
Алешка и Андрейка сразу окунулись в разноголосый базарный шум и галдеж. Из двух приземистых трактиров — маслянинского и карповского,— перекрикивая друг друга, высовывались в окна пестро-цветастые трубы граммофонов.
Из маслянинского окна труба хрипло подвывала!
...Умер бедняга в больнице военной, Долго родимый страдал...
А карповский граммофон выбрасывал наперекор маслянинскому разухабистые слова другой песни:
Е-ехал на ярмарку ухарь-купец, У-ухарь-купец, молодой удалец!
На помосте у циркового балагана стоял зазывала— парень в ярко-желтой рубахе. Он азартно бренчал на балалайке и, подмигивая народу, не хуже граммофона пел забавную песню о комаре. Возгордившийся комар, как ни зудил, как ни думал, что он главнее 10 всех, a.., N
Поднялася шуря-буря,
Комарика с дуба сдула. Пал!
Алешка толкнул друга под бок:
— Сходим на Конную. А потом к карусельщикам — наниматься. Идет?
Наниматься к карусельщикам значило попроситься помочь покрутить карусель. Работа трудная. В самом центре карусели, завешанном со всех сторон пестрым ситцем,— тумба. В нее воткнуты поперечные палки. Вот и нужно изо всех силенок налечь на поперечины и крутить тумбу, тогда и завертится карусель со всеми деревянными коняшками и сиденьями-корзинками. Крутить надо вначале не спеша, потом быстрее и быстрее, до пота. Зато час покрутишь, а два раза сам прокатишься. Выбирай любое место.
Ребята прошли на Конную. Ни одного примечательного коня не было. И они просто стали ходить между всякими саврасками, гнедками и рыжками. И удивлялись: лошадей совсем немного, никто не торгуется, не хлопают ладонь об ладонь продавцы и покупатели. Цыгане шумят, прасолы посмеиваются, а с базара коней почти никто не уводит. Почему? Алеша и Андрейка прислушались к разговору двух мужиков.
— Стало быть, успел, тоже привел?
— Увернулся. Всяко прикидывал. Хучь не зима, а по нонешним временам решил — продать. Все одно заберут и замест мерина квиток, значит, в руки: мобилизован для геройской белой армии.
— А по домашности теперь как же?
^— Осталось еще два незавидных, поди, на них глаза не разбегутся. Вот и буду изворачиваться.
— А на одном из незавидных с берданкой маленько подале от всяких глазастых благородиев податься не.думал?
— Всему свой черед.
Мужики задымили махоркой.
— Покупателей тоже нонче не стало.
— В хозяйство счас кто покупать будет? Этакая же судьбина ждет. А прасолы цену сбивают. Учуяли.
— Н-да, жи-исть пошла! Видать, остается в одну сторону глядеть.
— Выходит, что так.
В какую сторону решили смотреть мужики? Надо бы дослушать, но помешал веселый шум.
Молодой цыган с кудрявой порослью на подбородке, поблескивая озорными угольками глаз, сжал недоуздок у тощей лошаденки и, вроде ненароком подбадривая ее бичом под брюхо, выкрикивал:
— Подходи, налетай! Не конь — огонь! Не сопата, не горбата, животом не надорвата.
Лошаденка отмахивалась хвостом и не хотела вести себя по-огневому. Стоящие вокруг мужики посмеивались. Цыган ярче засверкал глазами и уже вполголоса таинственно сообщил:
— Один бок в масти белым отливает, другой красным. Купишь коня — куда хочешь поворачивай, все равно хозяину служить будет.
Мужики, одобрительно переглядываясь, хохотали:
— Ну мастак! Нашел вить на чем сыграть!
На Конной площади больше ничего интересного не было. Алешка с Андрейкой пошли к карусельщикам. По пути задержались у палаточного навеса старого знакомого — фотографа «пятиминутки» Елизарыча. Своим огромным черным ящиком на треноге он «снимал на карточку под кого хочешь»: черкеса или узбека, купца или форменного «господина», боярыню или «цветок в сердце». Цветок делался просто: на шаг от стенки вешалась мешковина с нарисованным сердцем и растущей из него ромашкой. В ромашке — дырка. Желающие— больше девки и молодые бабы — заходили за мешковину и высовывали в дырку лицо. Елизарыч грозно рычал: «Замри! Не мигай.» А через несколько минут отдавал снявшейся «ромашку» с выпученными,
испуганными глазами. Для «черкесов», «боярынь», «узбеков» и для других тут же на проволоке висели на выбор костюмы и различные уборы —черкеска с газырями, кинжалы, сарафаны и бусы, полосатый халат, чалма, трость с набалдашником, соломенная шляпа и форменная фуражка, Рядом стояло большое зеркало, около которого одевались и прихорашивались.
Ребятишек Елизарыч любил, никогда не гнал и разрешал вертеться около фотографии «для народности», только чтобы не мешали и не совались под руку.
А приходам Андрейки и Алешки даже бывал рад. Андрейке — потому что он «железнодорожного рода»» а Елизарыч сам до начала германской войны был же лезнодорожником и работал с Тимофеем Максимовичем в одном депо. Алешке же — как сыну однополчанина, ротного фельдшера, который хоть и сам пострадал, а спас ему жизнь.
«Тимофея Максимыча не взяли как машиниста паровозного: грузы к фронту возить надо было,— рассказывал Елизарыч.— А нас-то с Дмитрием Палычем чуток не в один день забрили. И его-то, хоть и фершал, да еще и путейский, ни в какой санитарный поезд не определили, а напрямки в маршевый полк. Видать, не зазря. Не дюже он к царю приверженность имел. Попали мы с ним даже в одну роту. Меня, в аккурат, по боевитости натуры, в разведку зачислили. Дают нам задание-—взять языка. Ну, пошли. Проползли. Взяли у них одного дурошлепа, хоть и цукфирна, унтера по-нашему. А вобрат двинулись, на ничейной полосе — накрыли. Всех побили и цукфирна вместе. Один я еле живой. Лежу, маюсь, память терять стал. Вдруг чую»— кто-то дергает. А это, Алеха, папаша твой на себе волоком меня тащит. «Ничего,—говорит,-—терпи, земляк! Живой останешься — будешь знать, как попусту за царя-батюшку солдаты кровь льют». Сам на выручку двинулся. А тут как германец из гранатомета ша-арах! И граната в аккурат рядом с нами. Мне еще в бок добавили, и Палыча крепко покорежило. Так он от меня не отвалился, ни тебе ни в какую. Тоже чуть жив, а до окопа все ж доволок. Потом в госпитале вместе штопали. И выписались чуть не враз. Списали обоих вчистую. Приехали домой. А в депо я уже не гож. Опять же спасибо Палычу. Он и надоумил насчет базарной фотографии: «Мужик,— говорит,— ты смекалистый. Нрава веселого. А с негативами, реактивами разберешься». Ну, я и определился».
Вот почему и сейчас Елизарыч, увидев дружков, хоть и был занят,— усаживал очередную «боярыню», весело им подмигнул и приветливо махнул рукой.
Андрейка и Алешка стали крутиться сзади парня, натягивающего на себя перед зеркалом черкеску, и начали показывать ему языки. Парень сделал вид, что не замечает их, и пошел становиться «под Казбек» — намалеванную на мешковине гору с белой вершиной. Дружки остались перед зеркалом одни. И тут, в который уж раз, опять удивились, как же они здорово друг на друга похожи. Недаром их часто принимают за братьев. Одинаковые карие глаза, курносые веснушчатые задиристые носы. У обоих плотные широкие передние зубы, а из-под кепок торчат вихорки темных волос. И рост одинаковый. Только Алексей поплечистей.
«От дружбы!» — так они еще в раннем детстве решили— вот почему похожи. И ребята уже друг другу скорчили рожи и высунули языки.
В зеркале мелькнул стаскивающий черкеску парень, а потом над ним возникло, с лукавым прищуром глаз из-под мохнатых бровей, сухое и скуластое лицо Елизарыча:
— Рожи корчите? А почему у Андрейки вроде бы левая щека не в ту сторону косит, а?
Ребята сразу сжались и втянули языки. Откуда Елизарыч мог так сразу угадать, что Андрейке трудно делать обезьяньи рожицы и строит он их совсем не от веселья, а опять же только «от дружбы».
А Елизарыч не отставал.
— Ну-ка, говори: что приключилось?
Андрейка насупился и отошел в сторону, а Алешка скороговоркой, полушепотом все выложил Елизарычу.
У фотографа сошлись над переносицей кустистые брови:
— По-онят-но! Иди-ка, Андрей, сюда. Ты не кисни. Тут, брат, дело такое... Рабочий характер показал — это неплохо. А что Федоровна тебе зад надрала — тоже верно. Сам вроде понимаешь, за что. А если понимаешь, то теперь, раньше чем что сделать, думать будешь.
До карусельщиков друзья так и не дошли.
На задней стене маслянинского трактира висел надорванный лист серо-зеленой бумаги. Перед ним, пошатываясь, стоял молодой мужик, а пожилой его уговаривал:
— Ну чего тебе приказ этот дался? Пойдем.
— Не-ет, погоди,— упирался молодой.— Ты мне объясни.
Ребята просунули между ними головы. На бумаге, вверху, крупными буквами было напечатано:
«ВЕРХОВНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ АДМИРАЛ А. В. КОЛЧАК ПРИКАЗАЛ:
КОНСКИЙ СОСТАВ...
А что приказал насчет «конского состава», непонятно.' Дальше весь приказ был густо замазан навозом, и только в самом низу осталось: «...июля 1919 года».
— А ты объясни,— продолжал спорить молодой: — ежели «верховный», значит приказ сполнять надо, а тут — pa-раз! И весь его приказ назьмом к шуту,,.. Это как понять, а?
Старший оглянулся и зашипел на парняг
— Ты что мелешь?! В тюрьму захотел? Андрейка при упоминании тюрьмы сразу опять поскучнел:
— Хватит, погуляли.
Базар продолжал шуметь.
Алешка с Андрейкой, как и все мальчишки, любили его многоголосые переливы, будто кто-то играл на огромной балалайке. Но чуткие мальчишечьи уши улавливали: звучит-то площадь по-балалаечному, а как-то не так, как всегда. Будто лопнула одна из трех струн. И тренькает вроде громко, весело, с переборами, а все-таки только на двух.
Расставаясь, Алешка напомнил:
— Пускай тетя Зина, если завтра пойдет, про шанежки не забудет. А ты за резиной приходи.— И добавил:— Только приходи пораньше. Я Федьку Косола-пика снова вызывал. Если он своего вызывальщика пришлет, завтра и сразимся.
— А ты очень-то не чемпионь. Федька тебя в пух расколошматил, как яичко облупил, а снова лезешь?
— Потому и лезу. Еще посмотрим, из кого последний пух вылетит! Приходи,
Суворовский удар
С незапамятных времен у мальчишек самой большой ценностью были бабки. Для красоты их окрашивали в разные цвета, а особенно крупные сверлили, заливали свинцом или баббитом, и получались «панки». Считали бабки «гнездами», то есть парами, а панок шел за три, четыре, а то и за пять гнезд. Бабки покупали и продавали за деньги, на них выменивали голубей, пугачи, ножи.
Основных игр в бабки было три: сачки, конорост и кон. Уважающие себя бабочники, хоть и сами с них начинали, в сачки не играли и относились к ним свысока: малышечья забава. Подумаешь, игра! Соберутся в круг с пяток пацанов, бросают по очереди с вывертом
бабки с ладоней и смотрят, как они лягут на землю. Ляжет бабка на спинку —кричат: «кыра!», на бок — «лозь!». Станет горбом вверх — «сака!». У кого «сака», тому первому и выбивать «кыр» и «лозей». Тут большого уменья не надо. Попадать-то в какую-нибудь «кыру» приходится чуть не под самым носом, за один— два шага.
Другое дело — «конорост». Это уже посложнее. Каждый играющий выставляет по гнезду, одно за другим, а в сторонке полувкапывают в землю вроде как командира — крупную бабку. Бьют не ближе чем на пять шагов. Лучшая бита — увесистый, налитый свинцом панок. Трахнет кто им по бабкам — сколько сбил, столько и собирай, а если главного сшиб — все бабки твои. Ну, а коль промазал, выставляй в хвост «коноросту» свое еще одно гнездо.
Высший класс игры — кон. Бабки ставятся в плотную шеренгу, а на отшибе, на той же линии, втискивают чуть не до макушки самую кряжистую. Расстояние от черты до кона уже не меньше чем шагов десять, а то и пятнадцать. Тут для бит нужны были не панки, а плитки, скользящие по земле, как камешки, когда их швыряют по воде, чтобы делать «блинчики». Хорошая плитка, удобная для руки и подходящая по весу, для бабочника-коновика все равно что для охотника ружье. Галечные плитки — голыши особенно не ценились. Зато железные «уточки», «кругляши» и «лодочки», сделанные из кусков колесных шин, береглись, как самая большая драгоценность. Их округляли на точилах, шлифовали до блеска кирпичной крошкой.
Били плитками по кону двумя способами: щучкой и внахлест. Щучкой плитка скользила вплотную по земле и, заторможенная, вламывалась в бабочный строй. Такой способ был малорискованным, но и большого урона не наносил. Нахлест применяли уверенные в себе игроки — «меткачи». Плитка тогда взвивалась по воздуху и врезалась с налету в строй. Бабки, как от взрыва, с треском разбрызгивались веером вверх! Высшим позором в нахлесте был «перехлест», когда плитка падала за бабочный строй. Горечь промаха заключалась не в том, что нужно было подставить к строю два гнезда проигранных бабок, а в обиде, когда вокруг все мальчишки начинали хором выкрикивать:
Перехлест! Перехлест! Собирайся на погост. Не умеешь— не берись, К кону кырой повернись!
Бабочники — народ прямой и судят строго. Вот этого приговора и побаивались многие игроки. Лучше уж щучки пускать: вернее и неубыточно. Таких в насмешку называли «щучниками».
Отец Алешки терпеть не мог мальчишек-голубятников, называл их пустоголовыми махальщиками, а бабки одобрял. Когда мать начинала возмущаться, что какие-то железки и бабки она уже стала находить у Алешки под подушкой и не пора ли прекратить эту дурь, отец топорщил усы:
— Дури нет. Сам Суворов в бабки играл. Даже свой удар у него был — «врезь и наповал»!
— Рассказывай сказки.
— Все точно. Историю, Аннушка, читать надо. Бабки— игра честная. Для мальчишек даже нужная. Вырабатывает глазомер. Характер. Укрепляет нервную систему. А под подушкой хранит, значит — дороги. Наверное, панки и плитки. Не вздумай выбросить.
А в редкий свободный час уводил сына на песчаную чистинку, в дальний угол ограды, и требовал:
— Ну-ка, покажи, чего достиг.
Алешка расставлял бабочный строй и начинал показывать. Отец делал замечания.
— Руку держи дальше. Не суй плитку к самому носу. Почему уши покраснели? Не волнуйся. Держись
спокойнее. Выдвинь ногу вперед еще на ступню. Целься. Ра-аз-мах. Бей!
Словом, начиналась самая настоящая тренировка.
Скоро Алешка стал первым меткачом-коновиком в поселке. Обыгрывать постоянно своих товарищей надоело, да было даже как-то и не честно.
— Не будь жадюгой,— учил отец.— Наиграл несколько десятков гнезд — оставь себе немного, а остальные раздай. Показал силу, что ж тебе еще нужно? Скопидомничать? За такие дела ни одного человека не уважают.
И Алешка делал так, как советовал отец: не накапливал выигранные бабки. А вот сразиться с другими меткачами хотелось.
И прежде всего — с сыном лавочника задавалой Федькой.
Ближайшая от Гулыбинки мелочная лавка была в поселке кирпичного завода. Торговал в ней, тесной и грязной, «всем, что душа желает» такой же грязный, как его заведение, щупленький выжига, похожий на трехногого комара, лавочник Зотик. Не гнушался Зотик ничем: приторговывал из-под полы водкой, ловко обвешивал и обсчитывал, подсовывал покупателям залежалые продукты, но умел всегда сухим выходить из воды.
Ребята терпеть не могли Комара, но по поручениям матерей в лавчонку бегать приходилось. Не любили они и его сына Федьку Косолапика, одного из лучших игроков среди всех пригородных бабочников. Совсем по наружности не в отца, большеголовый, с торчащими раструбами ушей, приземистый, с короткими ногами, Федька и сам был похож на кряжистую бабку — панок. Ходить он любил в отцовской засаленной жилетке, от которой за пять шагов хесло керосином и протухшей селедкой. А в отдельные дни для фасона пришпиливал поперек жилетки выменянную на бабки толстую латунную цепь, то ли от церковного -паникадила, то ли еще от чего, навеличивая ее серебряной. В карманах у Косолапика всегда были липучие запыленные леденцы. Сосал он их, громко причмокивая, чуть не беспрерывно, но никогда не угощал, а только изредка, под самую добрую руку, снисходительно одаривал «обсосочком».
Таких обсосков больше всего перепадало длинношеему вертлявому Севке Трясогузке. Севка был верным прислужником Федьки, он восторженно орал, когда тот ловко сшибал бабки, и опрометью бежал их собирать. Словно свои. А когда собирал, в азарте так дергался, что даже штаны на заду дрожали. За это и окрестили его вначале «Трясогузкой» а потом еще вернее и точнее — «Обсосок».
Играл Федька здорово, но нахально. Приходил с домотканым пестрым мешком и с вызовом им помахивал:
— Готовьте, мазилы, косточки! Были бабки ваши, теперь будут наши! — А когда, обыграв всех, уходил, то хлопал ладошкой по набитому бабками мешку.
— Не ревите, голопупики! Готовьте денежки, продаю по дешевке: по копейке за гнездо.
Севка, стараясь не отставать, вторил:
— Мешрк у Федора-то большой — на все ваши бабки хватит!
Алешка несколько раз ходил смотреть, как играет Косолапик, слышал его издевки над ребятами и решил сбить с него форс.
Но в первую же встречу Федька обыграл его начисто и досыта над ним насмеялся:
— У вас в Гулыбинке, видать, в одни сачки бабки крутят? Поднакопишь еще на сачках, приходи. Так и быть, пожалею — пару бабок на развод оставлю.
Да еще и Обсосок в ту же дуду стал выпевать своим тошным голоском:
— По кырам больше бей, по кырам!
Алешка ушел с первой встречи пришибленный неудачей. Гулыбинские друзья утешали его, как могли, и шумели в голос:
— Ты, Алеш, наплюй. Ну, проиграл. Подумаешь, невидаль. Не наиграешь, что ли? А Косолапину от нас еще достанется.
Но Алешка понимал, что все это — слова, и даже если ребята побьют Федьку, то большеголовик от этого не станет мазилой, каким оказался он, Алешка.
Несколько успокоил дома отец:
— Никак не пойму, почему у тебя нервишки сдали. Что, собственно, произошло? Встретился с более сильным игроком, всыпал он тебе? Так какой вывод ты должен сделать? Спасовать? Если с первого же поражения руки опускать, всю жизнь с разбитым носом ходить будешь. Считай эту встречу пробной. И так себя поведи, чтобы не ты, а противник твой скис.
Алешка стал готовиться к новой встрече. Помогали ему чуть не все гулыбинские бабочники, играя с ним в кон не на выигрыш, а «для глаза». Больше всего Алешке хотелось отработать «суворовский удар», о котором говорил отец. Нового ничего у него не выходило, получался тот же нахлест, только более резкий и точный, но само название вселяло уверенность в победу.
Надо было только еще обдумать, какие бы «штучки-закорючки» преподнести противнику.
И вот настало время второй встречи.
Проверяя натяжливость резины доделанного праща, Андрейка нацелился было в воробья на крыше сарайчика около Алешкиного дома, как из-за угла высунулась вертучая головенка Севки Обсоска.
— Федор велел передать: если гулыбинский заводила бабки поднакопил, пусть приходит отдавать к старому карьеру.
Андрейка перевел натянутый пращ на Обсоска: — Мотай-ка отсюда! В лоб звездану — только «ох» пикнешь.
Севка заскулил:
— Я что?.. Я только передать... а вы сразу... Так не по правилам.
— Правильно, неправильно — смывайся. Ну!.,-—и Андрейка сильнее натянул резину.
Севка моментально исчез. Алешка хмыкнул:
— Молодец, Андрейка! Прямо как все вместе задумали.
— А что ты задумал?
— Сам увидишь. Пошли к бабушке, поедим не спеша, ребят соберем и двинемся на Кирпичный.
Ребят собирать не пришлось. Хоть и жили Багровы на краю поселка, приход Севки был замечен. Не успели Алешка и Андрейка выскрести из тарелок последние крупинки гречневой каши, а на улице, у ворот, собрались чуть не все гулыбинские бабочники.
Алешка выпросил у бабушки цветастую большую наволочку, быстро набросал в нее несколько горстей бабок, но долго перебирал плитки. Взвешивал и оглаживал на ладошке то одну, то другую.
Андрейка не вытерпел:
— Что ты над ними колдуешь? Лучше еще бабок про запас возьми.
— Нельзя. Федька много своих никогда не берет. Этим тоже на мозги действует. А плитки, брат, другое дело. Вот и твою возьму.
Андрейка не очень увлекался бабками, но всегда с удовольствием сверлил и заливал панки, округлял и отшлифовывал для Алешки всякие «лодочки» и «уточки».
— Мою выбрал? Давай-давай, бери. Она не подведет.
Местом новой схватки была выбрана ровная площадка старого, выработанного глиняного карьера. Сбежались на нее, конечно, все ребята-кирпичники.
Федька явился при полном параде: в жилетке с серебряной цепью.
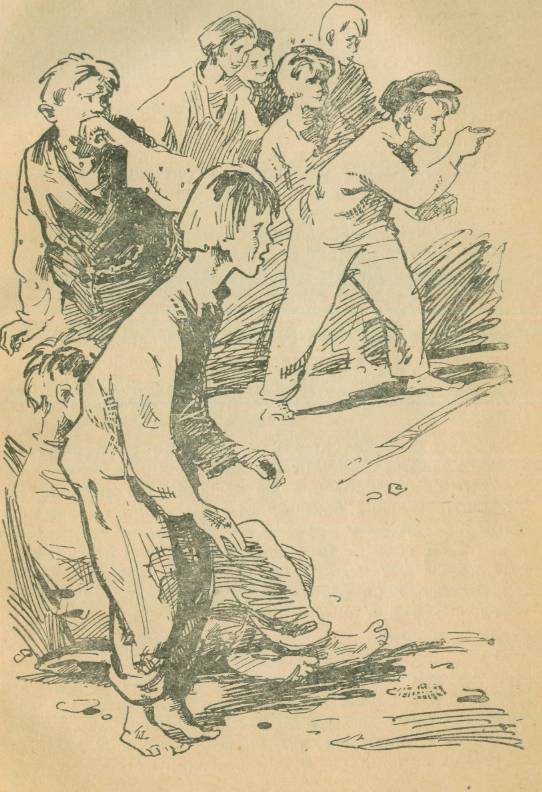
Но не успел он зайти на площадку, как Алешка завертел над головой пестрой бабушкиной наволочкой, в уголке которой постукивали бабки, и неожиданно для Андрейки, для всех ребят, а особенно для Федьки, закричал:
— Готовь, меткач, косточки! Много ли притащил? Может, без боя ко мне пересыплешь? — и стал раскрывать наволочку.
Так шутить над Федькой из ребят еще никто не рисковал. Нагнув большую голову, он по-бычьи уставился на смельчака:
— Ты что... припадочный? Смотри, сачкун, я и придуркам спуска не даю!
— Забодаешь, что ли? Рога выставил, так чего землю ногой не роешь? Может, попробуешь, а? Поглядим, как у тебя выйдет.
Ребята вокруг захохотали, а у кривоногого Федьки на лице выступили пятна. Отлупить Алешку сразу, до начала игры, было никак нельзя, не дали бы даже свои ребята с Кирпичного. И он только процедил сквозь зубы:
— Откукарекался? Готовь потроха на лапшу. По скольку гнезд ставить не трусишь?
Алешка увидал, что его «закорючки» начали срабатывать. Федька закипал. Значит, надо продолжать в том же духе:
— Сам, если не трусишь, прижми уши и выставляй четыре.
Прижать свои торчащие ушй" Федька, если б и захотел, все равно не смог бы, и они у него от злости стали лиловыми.
Гулыбинские ребята зашептали Андрейке: зарывается Алексей! Шестнадцать бабок в кону для двух! А у него-то с собой каких-нибудь десятка два гнезд. Андрейка тоже нахмурился: говорил ведь хвастунишке— бери больше. Ну, пускай теперь и выкручивается. Поединок начался. Выставили кон. Копейка, кувыркаясь, взлетела в воздух. Алешка крикнул: «Орел!»,— но выпала решка. Федька засунул за щеку леденец, потом важно, раза два , прицеливаясь, поднес к носу плитку-кругляш и только тогда сделал бросковый взмах рукой. Из шестнадцати бабок половина выбыла из строя. Удар был очень хорошим. Севка громко заверещал и кинулся собирать бабки. Но Алешка и бровью не повел:
— Сразу, да и по своим? Так играть —лучше плитки не держать! — бросил свою «лодочку» легким наки-дом и сбил всего... две бабки.
Федька загоготал:
— А так держать ловко?! Может, еще пару гнезд подставишь, чтобы мне их заодно счистить?
— Мычало мочало — не знало, где конец, где начало! — Прикинувшись, что выкрикнул присказульку с досады за неудавшийся удар, Алешка, вроде сразу входя в азарт, отчаянным жестом расстегнул ворот рубашки: —Была не была —выставлю еще! Но сколько я, столько и ты. И чур мне бить первому,
Федька довольно осклабился:
— Давай-давай, ставь. Растряси мешок. Посмотрим, какие складушки- дальше запоешь.
Алешка — и верно — схватил наволочку, подтащил поближе, стал выгребать из нее бабки и ставить в кон одно гнездо за другим. Три... пять... восемь!
Андрейка свел брови, мальчишки-зрители заволновались и вытянули шеи, а Косолапик, предвкушая легкую добычу, небрежно поставил столько же бабок.
Кон вытянулся шеренгой чуть не в три раза длиннее, чем первый.
Такие редко выстраивались, когда играло и по десять человек. В одну линию с ним, на четыре .ладони поодаль, стояла всунутая в глину, похожая на Федьку, коренастая главная бабка — командир.
Алешка перестал балагурить. Он сменил плитку и впился глазами в цель.
Р-раз!
Все ребята только ахнули, а у Федьки из разинутого рта выпал леденец. «Суворовский удар» сделал свое дело. Да и Андрейкина «уточка» не подвела: бабка-командир, как вытолкнутая из-под земли, взвилась вверх и, жужжа майским жуком, полетела над площадкой. Весь огромный кон был выигран в один миг. Только тут Косолапик понял, что попался на крючок, как самый последний гальян. Теперь уже не по выбору, а по праву Алешке опять бить первому, а Федьке, не споря, чтобы не опозориться перед ребятами, придется выставить бабок столько же, сколько вздумает поставить противник.
Но Алешка, как бы жалея засопевшего Федьку, поставил опять только четыре гнезда и сбил одно крайнее. Косолапик, решив действовать осторожнее и наверняка, пустил плитку... щучкой. Хоть строю и был нанесен порядочный урон, ребята не преминули про-кричаты
— После вздрючки пускай щучки!
Федька стал терять основное в игре — выдержку. Он снова стал бить нахлестом, но на втором ударе, чуть ли не впервые за все лето, сделал перехлест. Зрители, конечно, не упустили такого редкого случая и дружным хором прокричали позорящую присказульку.
А Алешка красивым сильным ударом вышиб командирскую бабку во второй раз.
Федька «соскочил». Стал плеваться и ругаться, махать без толку руками, оторвал один конец фасонной цепи и, не замечая, как она хлопала его по штанине, грозился:
— Видали мы таких хитропузых!.. Еще посмотрим! Я еще...
Но было уже поздно. Его бабки неумолимо, все до одной, перекочевали в мешок к Алешке. Севка Обсосок остался без работы. Игра окончилась. Федька, чтобы отыграться, угрюмо стал просись
бабки взаймы у своих поселковых ребят, но те, будто сговорившись, отвечали:
— А они у нас откуда взялись?
— Тебе же вчера последние проиграли.
— Мы так, мы. на поглядушки пришли.
Было ясно, что ребята про поглядушки врут и просто-напросто решили наконец-то хоть так отплатить Косолапику за все обиды и проигрыши. И только обыграть Федьку было еще не все, мало. Противного ла-вочникова сынка надо было перед ребятами доконать, и доконать без жалости. Алешка высыпал из наволочки на землю все бабки — и выигранные, и свои.
— Налетай, «кирпичики»! Разбирай на память. Первым на дармовщинку кинулся Севка и набил
полные карманы. Остальные ребята-кирпичники взяли поровну и пошли провожать Алешку с Андрейкой и их гулыбинских друзей. Пошел со всеми было и Обсосок, но потом завертел длинной шеей в обратную сторону, да так, со сползающими от груза штанами, и застрял где-то посредине дороги.
А на краю глиняной площадки Федька Косолапик остался стоять один с болтающейся «серебряной» цепкой и пустым мешком.
Выходит, попался!
Спалось в эту ночь Алешке плохо. Казалось бы, после победы над Косолапиком что еще надо? Уткнуться носом в подушку и спать, спать и спать. А тут ни с того ни с сего полез в глаза Севка, обкрученный с пят до тонкой шеи «серебряной» цепью. Бьется, дергается Севка, крутит головой с выпученными глазами, а распутаться никак не может. Только отделался от Севки и зажмурил покрепче глаза, как из-под самых век завспархивали бабки и полетели высоко-высоко вверх, к самым звездам. А там, в небе, бабки прилипают к звездам цепочками, как булавки к магниту.
Алешка вертелся на постели с боку на бок и так и этак. И уж совсем решил, хоть и было стыдновато, перебежать под бок к бабушке, как в крайнее от угла окно раздался осторожный стук: «Так-так, так-так-так!» Отец, как будто не спал, встал с кровати и, не зажигая лампы, начал быстро одеваться. Проснулась мать. Каким-то не своим голосом она спросила:—Снова к... больному? А скоро обратно?
— Не знаю. Только ты тише. И не волнуйся. Легонько скрипнула дверь. Отец ушел.
Алешка давно уже привык к тому, что отец по ночам нет-нет да и уходит из дома. На то он и фельдшер. Если уходит, значит какому-то человеку плохо. Но те, кто прибегал по ночам от таких людей, тарабанили в дверь, громыхая замочной накладкой, громко кричали, извинялись и снова кричали: «Выручай, Дмитрий Па-лыч! Прости за ради бога, что разбудили. Выручай! Зазря бы не потревожили». А вот сегодня вместо шума и крика только мягкий постук в окно. И почему у матери был чужой голос?
Отец вернулся домой поздно вечером. Мать бросилась ему навстречу, но он ласково ее отстранил:
— Грязный я, Аннушка. Согрой шел. Подогрей-ка воды помыться.
Зачем отцу надо было лезть в согру? Если больной жил в одной из боровых деревень, значит приезжали на лошади. Тогда почему не довезли до самого дома, как это делали всегда все? Надо бы спросить, но отец сразу же после мытья -поужинал и лег спать.
На другой день после завтрака отец вышел покурить во двор. У дома было два выхода: один в жилую половину, а на дверях другого висела самодельная табличка: «Амбулатория». Там отец принимал больных, На этот раз на крыльце амбулатория никого не было. Значит, отец свободен и можно поразговаривать. Алешка подошел к нему, делая невинный вид:
—- Пап, тебя вчера ночью куда, в Буранку вызывали?
Отец, думая о чем-то своем, ответил:
— В Буранку...— и тут же спросил:—А что?. Сын торжествующе запрыгал на месте:
— Попался, попался! Ехать из Буранки ни одна согра не мешает, И дорога прямая. Только две ви-люшки.
— Выходит, брат, попался.
Алешке стало неловко за отца, и он, сам покраснев до ушей, пробормотал:
— А еще учишь... всегда правду говорить. Отец положил руку на плечо сыну:
— Тут, Алеша, неправды нет. Даже... Как бы тебе сказать? Пожалуй, наоборот.
— Какая же это правда, если наоборот?
В разговоре с отцом наступали те самые редкие минуты, которые так любил Алешка. Можно о чем хочешь заспорить, наскакивать петухом. А глаза у отца станут такими же настороженно-внимательными, какими бывают, когда он прикладывает костяную трубочку стетоскопа к груди или к спине больного. Только в глазах-появятся еще махонькие веселые искорки, а кончи-кн огромных пышных усов начнут поочередно вздрагивать.
Но разговора не получилось. Со стороны леса раздалась многоголосая громкая песня:
Как ныне сбирается вещий Олег Отмстить не-разу-умным хоза-а-а-арам...
Двор фельдшера Багрова выходил тыльной стороной к сосновому бору. В глубине бора шел, шумный и днем и ночью, тракт, а около самой багровской ограды проходила еще одна узкая полоска проезжей дороги.
На ней и появились те, кто пел песню,— колчаковские голубые уланы.
Об уланах Алешка, Андрейка и все их приятели знали не хуже взрослых. Иначе их называли — аннен-ковцы, по имени их главного начальника атамана Анненкова— верного помощника самого Колчака.
В анненковских отрядах были не только уланы, но и гусары, казачьи сотни. Форму они носили разную, но у всех на рукавах выше локтя был нашит один и тот же знак: череп, а под ним две перекрещенные кости. Знак всем людям был ясен — смерть! И еще знали ребята: анненковцы не просто солдаты, а белые до-бро-воль-цы. Те, кто сами захотели помочь Колчаку уничтожить Советскую власть, а с ней и всех, кто за нее, кто стоит за рабочих и крестьян. Карать всех, кто не хотел старого царского порядка, не хотел подчиняться «верховному правителю». И, как писалось в приказах, расклеенных по городу, «пресекать бунты и крамолу». Это значило — сжигать села, расстреливать людей, вешать, пороть стариков и женщин, не щадить и маленьких ребятишек. Наводить страх и ужас. Отсюда аннен-ковцам и было народом дано короткое точное название— каратели. А они не только знали, что их так называют, но и сами называли свои эскадроны и сотни «карательными отрядами» и там, где им не давали отпора,— показывали свою силу над беззащитными людьми.
Впереди на крупном сыто играющем жеребце, важничая, ехал офицер, а за ним, на одномастных рыжих , конях между забором и кромкой бора вползла длинная колонна всадников. В колонне все переливалось блеском: и кожаные белые перчатки офицера, и лоснящиеся крупы лошадей, и лакированные козырьки сдвинутых набекрень фуражек, сапоги, пояса, и ярко-голубые нагрудники с двумя рядами начищенных пуговиц, и шашки, и карабины за плечами. Блестели и розовые 30 потные лица, а из глоток неслось:
...Их села и нивы за буйный набег Обрек он мечам и пожа-а-рам!
Не отливали блеском только нарукавные знаки — черепа и кости.
А еще... плети!
Они тяжело свисали с кистей рук бурыми тусклыми змеями по окантованным голубыми полосками подседельным чепракам, рядом с лаковыми голенищами.
Алешка глянул на отца. Тот молча провожал улан холодным, тяжелым взглядом.
...Дня через три, вечером, Алешку послали распутать и привести с лесной поляны старого Карьку, которого в семье Багровых очень берегли, а отец лечил так же заботливо, как и людей.
Карька был уже достаточно мудр для того, чтобы спутанному не упрыгивать далеко от дома. И Алешка быстро нашел его невдалеке от тракта. Убедившись, что коняга насытился и перестал хватать траву отвислой губой, набросил ему уздечку, снял путы и взобрался на костлявую спину.
Солнце уже село. В бору наступали сумерки: сгустились тени кустов и сосен, от согры потянуло сыростью. Как и каждый вечер. И все же чувствовалось что-то необычное. Сразу Алешка и разобраться не мог, чем изменился сумеречный бор, но около уха неожиданно и почему-то очень громко зазудил комар и как будто подсказал отгадку.
В лесу около тракта было... тихо.
Именно в это послезакатное время тракт всегда наполнялся гулом голосов подводчиков. Кто из них весело перекликался с приятелями, кто, спеша домой, покрикивал на лошадей, подгоняя их, кто по-пьяному горланил песни. Щелкали кнуты, стучали по корням старых сосен колеса пустых телег.
А сейчас — вдруг — совсем тихо.
Почему? Мысли о притихш-ем тракте перекинулись
к базару, с которого всегда с таким гамом возвращались по вечерам подводчики. И сразу в памяти возникла полупустая конная площадь, подслушанный разговор мужиков, приказ на серо-зеленой стене трактира.
Здесь, около затихшего, как сам лес перед грозой, тракта, Алешке становилось понятным, о чем говорили мужики на конном базаре и что было написано в испачканном приказе о «конском составе».
На ком всё кругом возят и-все ездят? На конях. На ком мужики землю пашут? На них же. И нигде и никак без коней не обойтись. А Колчак эту, чуть не самую главную силу решил у народа отобрать и взять себе. Отобрать коня?! Шиш он получит! Недаром и приказ навозом замазали, именно конским.
Мысли прервала затарахтевшая на тракте одинокая телега. На ней сидел покачивающийся мужик. Поравнявшись с Алешкой, он нутряным злым голосом затянул: «И-извела меня кручина, подколодная..., но так же внезапно, как начал песню, так и оборвал. Хлестнул лошадь и потарахтел дальше.
Тракт снова замолк. И Алешка почувствовал себя очень одиноким в сумеречном бору. Захотелось скорее домой. Он начал понукать Карьку. Цепляющиеся за голову сосновые ветки напомнили шершавые пальцы бабушки Моти, когда она, бывало, перед сном поскребы-вала Алешкин затылок. Волосы попадали в трещинки узловатых пальцев, было немножко больно, но все равно лучшей ласки Алешка никогда не испытывал. Ему, даже совсем маленькому, бабка перед сном никогда не рассказывала сказок и не пела песен. Только поскребывала голову. И Алешка засыпал скорее, чем под материнские колыбельные песни. А когда долго не засыпалось, добродушно ворчала:
— Ты, Леш, о чем-нибудь подумай, помечтай. Ну, хоть о том, будто мы с тобой нечервивый белый гриб с тарелку в бору нашли. Иль как, когда подрастешь, любому своему супротивнику не уступишь...
Карька вдруг зафыркал и стал. Мимо, по объездной дороге, в сторону города двигалась колонна улан. Алешка вгляделся: те самые, недавнишние. Но на этот раз уланы не пели и не блестели. У офицера не было перчаток, а одна рука согнутой висела на повязке. Все *были какие-то тусклые. Сзади ехало несколько подвод, на которых лежали и сидели забинтованные уланы.
Когда колонна прошла мимо, Алешка что есть силы забарабанил пятками Карьке по бокам. Тот понял и хватил тяжелым наметом. Ворвались во двор.
— Пап! Па-па! Где ты? Уланы побитые вернулись! Отец в ответ только шевельнул усами:
— А зачем так кричать? И еще не раз так же получат. Это им не хозары. И Пушкина своей песней поганить не будут.
Кто такой Пушкин, Алешка знал: великий русский поэт. Толстый том его стихов стоял у отца на полке вместе с медицинскими книгами. А вот кто такие хоза-зы — не знал. Вопросы так и рвались с языка. Но глаза у отца были холодные, совсем ледяные, такие же, как тогда, когда он слушал громкую песню улан о неведомых хозарах. Алешка прикусил нижнюю губу, Вопросы пришлось отложить.
Конь и зверь
Все ребята, как только увидят автомобиль, грузовой там или «пассажирский» — легковой, так табуном за ним и гонятся. И Алешка с Андрейкой вместе со всеми. Никак не привыкнут: в новинку такие машины. Но Алешка отставал раньше других. Хоть и интересно, хоть быстрее самого быстрого коня, а пробежишь— и полное горло вонючей гари. Подумаешь, удовольствие!
Для Алешки ничего не может быть красивее и завлекательнее настоящего коня. Статного. Высокого. Такого, что стоя на месте весь ходуном ходит, яростно косит глаз, круто выгибая шею, грызет удила и жарко фыркает вздрагивающими ноздрями. С этим не зевай. Попробуй ослабь повод, сразу же на дыбы встанет или так рванется, что и мигнуть не успеешь, а повода в руках нет. А кто держал его, только в ладошки обожженные дует...
Вот они какие, настоящие-то!
Алешка был влюблен в таких коней. И когда, на конном ли базаре, на застывшем ли зимнем городском пруду, на азартных скачках-бегах или еще где выпадало ему счастье оказаться близко около горячего скакуна, Алешка безо всякой боязни подходил вплотную и начинал чуть не по-голубиному ворковать:
— Тпрусь, тпрусь! Дай-ка, поглажу. Ну, чего ты, дурной? Вот я сейчас тебе гривку расправлю! Только чур не баловать.
И на удивление хозяину и окружающим, конь переставал по-вражески коситься и начинал спокойно переносить ласковые ребячьи поглаживания. Взрослые поощряюще одобряли:
— Молодец, малец! Кони ласку и упористость понимают, подход!
Когда Алешка, вдоволь натешившись с конем, возвращался к другу, Андрейка недовольно бурчал:
— Надо же! Гладит да наглаживает, наглаживает да гладит. Я аж смотреть устал. Хватит тебя когда-нибудь этакий любимчик за нос, тогда и отгладишься.
А Алешка, еще переполненный своим чувством, не мог отругиваться, а только жмурился, как кот на солнышке:
— Это, брат, тебе не винтики-шпунтики! Бывало и наоборот.
Андрейка готов по три версты бежать за каждым
появившимся автомобилем, и все ему знать нужно: по-
чему автомобиль трогается, как сразу застопоривает?,
А если увидит на стоянке, то ужом завьется около важного, неподступного шофера, в особенности, если тот что-нибудь в машине починяет.
— А это, дяденька, з-ачем? А тут трубка от карбюратора идет, да? — и дальше, и дальше. И странно: сердитые на всех . мальчишек шоферы его от себя не гнали, а даже что-то объясняли.
Тут уже приходилось ожидать Алешке, когда же у шофера или лопнет терпение от бесконечных вопросов, или он усядется за руль и нажмет на резиновую грушу рожка, давая гудок перед тем, как тронуться. Но чаще бывало, что на въедливого Андрейку шоферы не только не цыкали, а на прощанье махали из кабины рукой в кожаной перчатке-краге:
— Бывай здоров, механик!
И Андрейка двигался к ожидавшему Алешке, как из тучи на землю выпавший, с шальными глазами, устремленными невесть куда: то ли вслед клубам песчаной пыли, то ли еще куда-то дальше.
Алешка хорошо понимал состояние друга, но удержаться от «подсечки», конечно, не мог:
— Ду-ду-ду! Укатил автомобиль, а в носу и вонь и пыль! Чихни. Очнись, «меха-аник»! Шофер-то белопогонник. А Андрюшка перед ним: тит, тюти, где тут у вас в машине какой за какой проводок зацеплен?
Андрейка, даже и после такой подсечки, не сразу приходил в себя и только, когда глаза становились нормальными, сбивал на затылок кепку:
— Это тебе, конюх, не коняжка-малашка, а ма-ашина! Что шофер беляк,— черт с ним! Не он машину делал, а рабочие, хотя, может, и не наши, не русские. Тут разницы нет.
За «конюха» и «малашку» по всем законам над» бы трахнуть друга по уху, но... автомобиль-то, действительно, делали не беляки, а рабочие. И «механика», и совет чихнуть и очнуться он первым Андрейке подсовывал. Так за что трахать? Выходило, что ни к чему.
На одной из городских улиц Алешка на всем ходу остановился, схватил Андрейку за руку и по-гусиному вытянул вперед шею:
— П-пос-мотри, к-какой красавец!
К стволам тополей около большого двухэтажного дома были порознь привязаны два заседланных коня. Оба одной светло-гнедой масти, оба одного роста, но совсем разные. Один конь как конь. Зато другой! Каждый поворот его гибкой шеи, каждое, даже самое малое движение вызывали игру мускулов под атласной кожей. Вот это конь! Даже Андрейка и тот округлил глаза. Алешка же, забыв обо всем на свете, протянул руки и на цыпочках стал подходить к гнедому.
— Тпрусь, тпрусь, гнедушка! Привязали тебя бедного, а тебе побегать хочется, да? Я вот тебе сейчас за ушком почешу.
И Алешка стал было дотягиваться до трепетавших конских ушей, как из-за высоких кустов палисадника раздался ленивый бас:
— Я те почешу!
Алешка не растерялся. Привык уже и к похвальбе и к окрикам за любовь к лошадям. Он никуда не побежал, а пошел прямо на голос.
— Я, дядя, только погладить...
На верхней ступеньке парадного крыльца дома сидел пожилой густобородый и чубатый хмурый казак с желтыми лампасами на синих штанах и двумя поперечными белыми урядническими полосками на погонах. Вся правая сторона крылечных ступенек около него была усыпана цигарочными окурками. Сразу видно: сидит уже долго. Прохожие ускоряли шаги, стараясь не замечать казака, а он откинул за спину шашку, по-хозяйски расставил ноги в сапогах с лаковыми голенищами и уселся, как навек. Перевесил через колено толстую, круглую, длинную плеть, такую же, как те, не блестящие, у улан побитого эскадрона, и старательно, 36 не спеша, с тонкого конца отминает каждый ременный
сплёток. Скучно уряднику. А тут причина для развлечения. Он и уставился, еле приподняв веки, тусклыми вылинявшими глазами на Алешку:
— Ты откуль такой храбрый, пащенок, вылупился?
— Я? Из Гулыбинки.
— Похоже, что брешешь.
— Почему это брешу?
— В Гулыбинке конюшен не строят. Только шушера и голь перекатная обосновалась. Ребята скрозь в ремках, а то и завовсе пупы наголё. А у тебя закрытый. И рубаха чин-чином, цельная. Значит, брешешъ.— И выставил торчком бороду.— Лучше по правде докладывай: кто такой есть, кто подослал и у кого по конской части науку проходишь? И не вздумай бечь, враз ссеку! — Казак похлопал ладошкой по револьверной кобуре, и глаза у него вдруг вместо тускло-линялых стали такими свирепыми и пронзительными, что Алешку как гвоздями прибили к тротуару. Такого оборота он никак не ожидал. Надо было выкручиваться. И, отбросив два первых вопроса, Алешка громко зашмыгал носом, жалобно опустил плечи:
— И никакая, дядя, не наука, а просто... у меня дедушка на ипподроме жокеем служил.— И, чувствуя, что вранье надо подкрепить, добавил: — И отец тоже.
Глаза урядника потеряли злой блеск.
— Ишь ты! В роду, значит. То-то гляжу, чисто цыган-колдун— прешь к Рубину, а он тебе ни на дыбы не стает, ни зубы не кажет. А конь сурьезный: не только чужого, но и меня и даже его высокоблагородие не враз иодпущает.
Кажется, пронесло!
— Нашли колдуна! Просто-напросто Рубин голодный и пить хочет. Вот и смирный стал. Он сейчас хоть медведя подпустит, если у того в лапе овес будет. .
Казак от такого напора парнишки даже привскочил, теряя важность осанки. Потом спохватился, смачно плюнул Алешке под ноги и опять насторожился:
— Следил, варнак, выходит?
Но Алешка, чувствуя, что правда на его стороне, на «тот раз не присох на месте, а даже с вызовом сделал полшага вперед:
— И следить тут нечего, сразу видно. У коней паха запали? Запали. Шею Рубин вытягивает? Вытягивает.— И, входя в азарт спора, почти выкрикнул: — Да и свои окурки вокруг посчитайте!
Урядник затряс чубом и по-жеребячьи заржал: — Наповал, подлец, сшиб, распроязви его! — И, оглянувшись на закрытые ставнями окна второго этажа, ворчливо забубнил сквозь бороду: — Сам ли чо ли не вижу? Сердце не болит? Кони и моя болезнь. Своих цельный табун косяком провдоль Ануя-реки пасется. Поболе половины не только седла — и узды не знают. Чисто дьяволы копытные! А тут теперь дело такое выпало: сиди и жди.— Почему?
— Потому как их высокоблагородие господин ротмистр Линчевский после ночной службы в этом доме роздых себе определили, а приказа на отлучку и чтобы коней кормить не дали. Сказывали, на часок, да, видать, по-другому обернулось. Ставни-то до сей поры вплоть. А покуда, хошь не хоть,— покуривай да вот струмент свой к службе готовь,— он покрутил плеть, а потом опять стал ее мять.
— В воде намочили, да?
— Вода бы ладно! А вот от крови враз никак не отомнешь.
Чувствуя, что сейчас услышит что-то страшное, Алешка все же спросил сквозь побелевшие губы:
— К-кровь? Чья?
Урядник оскалил в ухмылке клыкастые зубы.
— Гусиная. Даве ночью гусей красноперых промеж
крылец гладил. Есть такая порода. Их и в обруб и с
протягом, а они все топорщутся. А по приказу их высокоблагородия чуть не цельную стаю пригнали. С ними
и занимался. Покуды по очереди перья им перебирал," тут и утро. Ну, струмент и промочил насквозь. Теперь заскорузла и гибкость потеряла. Хучь меняй.
Судорога от губ у Алешки побежала ниже, стянула комком горло и грудь. Такого еще с ним в жизни не бывало. В каждую жилу наливалась ненависть. Вот он — каратель! Не по рассказам и не проезжающий мимо в отряде, а вплотную, близко, так близко, что видны крошки махорки в густой бороде. Мысли у Алексея молниями засверкали, наскакивая одна на другую. Убить палача! Тут же. Сейчас. Но что он, мальчишка, может сделать с этим крутоплечим бородачом, обвешанным оружием. И от сознания бессилия у Алешки заломило переносицу, подступили слезы. А каратель разминал свою ужасную плеть и продолжал размышлять вслух, как о чем-то обыденном и простом:
— Вот вить какая у этих красноперых и кровища на. особицу. Который час маюсь с отминкой, а в середке все ишшо твердость.
Дальше Алешка слушать не мог. Он отскочил в сторону, за тополи, и дрожащей рукой выхватил из кармана свое единственное оружие —пращ. Но тут же услышал голос Андрейки:
— Алешка, зась!
Друг вовремя вспомнил это короткое, магически действующее слово. Они оба не раз слышали в Андрей-кином доме, как в самом накале горячих споров разных людей его батька хлопал ладонью по столу: «Зась! Не в ту сторону дебаты пошли!» — и спорящие стихали.
«Зась!» помогло. Алешка очнулся. За углом в переулке, куда его оттащил Андрейка, он разжал пальцы на рукоятке рогатки, но никак не мог остановить дрожь в теле и поставить на место стянутые судорогой губы:
— Т-ты по-нимаешь, пони-маешь, чью он кровь... чью... из плети... от... отминает, а?
Андрейка в ответ глухо сопел и упрямо подталкивал друга еще дальше. Так и вышли на главную улицу.
У зулусов
А улица сразу и удивила. По обеим сторонам дома на ней были расцвечены бело-зелеными колчаковскими флагами вперемешку с какими-то незнакомыми: то разноцветно-полосатыми, то такими, у которых для чего-то посередине был нашит желтый блин. На домах помельче флаги жиденько болтались по одному, а на тех, что захватывали по полквартала, торчали целыми букетами. Такое событие требовало объяснения. Андрейка шагнул к ближайшему из «негров» — парнишек-чистильщиков. Они не только не обижались на такую кличку, но и гордились ею и даже нарочно намазывали себе рожи ваксой. «Негры» были отчаянными забияками и зубоскалами, а вообще-то хорошими и веселыми ребятами.
— Это с чего всю вашу Африку так разукрасили? Чистильщик оказался не промах. Видимо, тоже хо-
дил в школу и знал географию. Он сделал вид, что удивлен вопросом, и важно воскликнул, выпучив белки глаз:
— О дикарь из пустыни Сахары! До таких, как ты, всегда новости доходят на сдыхающих верблюдах. Отковыряй от песка свои уши и знай: в долину нашей реки к вождю Трах-Бах-Бумбе идет караван «гостей»-завоевателей: французских, американских, английских, японских офицеров и других гадов. Поэтому краали на ее берегах и обвешаны их фартуками.— Дав такое объяснение, парнишка уже своим голосом добавил: — От самого вокзала понацепили.-—И, снова сделав «негритянскую» физиономию, размеренно застучав колодками щеток по крышке подставочного сапожного ящика, запел:
— Чики-чики-чики-чак! Помогать позвал Кол-чак.
Он призакрыл зачерненным веком один глаз и участил щеточный перестук:
Да хоть с ними, хоть и так, Р-ра-ком пятится Колчак!—
и щетки, грохоча, оттарабанили ударную концовку.
— Здорово! — Андрейка чуть не захлопал в ладоши. Но и «дикаря из пустыни» тоже никак нельзя было оставить без ответа.
— А если ваш Трах-Бах-Бумба за песню прикажет тебе штаны сдернуть да и... «чики-чак» устроить? Каким голосом к маме запросишься?
Чистильщик в пузырь не полез, а захохотал и шлепнул щетками щетиной о щетину:
— По географии тебе, умник,— кол! В Африке штанов не носят. Это раз. А потом: «В храбром племени зулусов среди воинов нет трусов!» Это два!
Алешка не впутывался в перепалку чистильщика и Андрейкн. Он был еще полностью во власти чувства ненависти к бородатому владельцу табуна на Ануе-ре-ке. Облик палача-урядника вобрал в себя весь ужас слышанного о кровавых налетах колчаковских карателей на беззащитные села, истязаниях и пытках в застенках контрразведки. А чему радуется улица? Кому размахивает флагами? Им, карателям?! Ухватив краем уха последние слова чистильщика «Это два», Алешка с криком: «А вот вам и три!!»,— как подброшенный ветром, взлетел по водосточной трубе на козырек парадного крыльца соседнего дома, а оттуда тигренком рванулся в прыжке и повис на закрепленном в стене древке бело-зеленого флага. Не успели «негры» и Андрейка рта раскрыть, как древко затрещало и Алешка вместе с флагом свалился на землю.
Дальше все замелькало и закружилось, как на карусели. Какой-то проходящий мимо чиновник в форменной фуражке закричал: «Что, прохвост, делаешь?!»— и стал хватать Алешку за шею загогулиной
рукоятки трости. Андрейка, было остолбеневший от вы-* ходки друга, молниеносно переглянулся с «негром» и щучкой нырнул чиновнику под ноги. Чиновник выронил трость, упал и завопил: «Держи, бандиты!» Чистильщики всей ватагой кинулись его услужливо поднимать, стараясь побольше хватать черными ваксекны-ми лапами за белоснежный китель. «Негр»-географ стал толкать Алешку и Андрейку в калитку:
— Скорей, сюда! Тут в заборе в другую ограду дыра есть!
Все трое шмыгнули в дыру, перебежали двор, еле протиснулись между какими-то сараями, потом на четвереньках пробрались под амбаром на толстых коротких столбах и только в третьем дворе, за высокими поленницами дров, «негр» скомандовал:
— Ф-фу, стоп! Уж сюда ни один черт, если побольше тридцати вершков, не проберется!
Андрейка, всегда переживавший, что медленно растет, хоть и с запышкой, а прошипел:
— Так и мерили вы свои собачьи лазы!
— Выходит, смерены. Иначе сюда вас не заволок бы,— и чистильщик, считая, что с Андрейкой больше говорить не о чем, повернулся к Алешке: — Расшибся? Больно?
Алешка, так и не выпустивший из рук обломка древка, вздернул нос и свел брови:
— Ну и расшибся! Ну и больно! Зато — вот вам всем! — и он взмахнул замазанным в земле флагом.
— Кому всем?!
— Всем, кто эти портянки поразвесил. Да и тем, кто всяким уланам сапоги начищает.
«Негр» не обиделся, а с уважением протянул руку:
— В лоб бьешь. Давай знакомиться. Тебя как зовут?
— Алексей. А тебя?
— Бабка Улита хотела назвать Никитой, а поп Гришка окрестил Мишкой. Вы тут малость посидите и
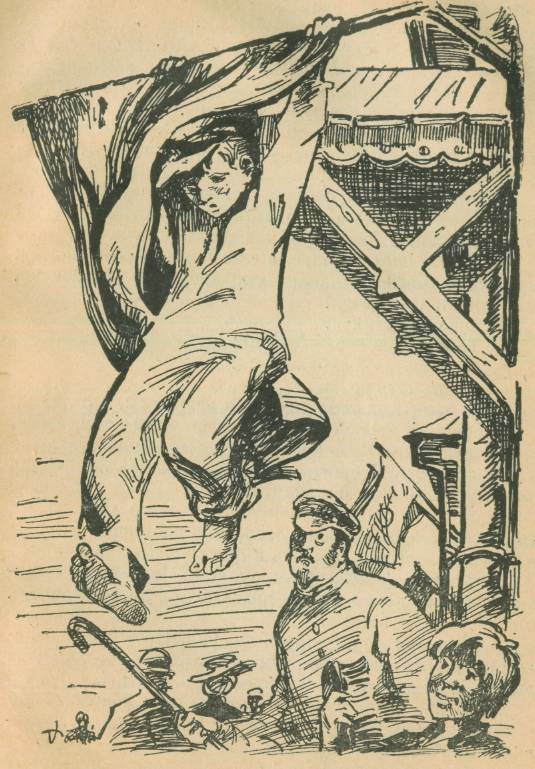
выбирайтесь, а мне пора. Там сейчас шум идет, а за моим ящиком пустое место.— И Мишка на прощанье зачастил, как его щетки: — Не знаю, что дальше с флагом будешь делать: на чучело намотаешь или еще куда, а от палки отдери. А друг твой пускай в учебник заглянет, где про Африку.— Он сделал «негритянский» вид, поднял торжественно вверх руку.— А о подвиге твоем, о храбрый бедуин, зулусы будут петь песни! — И исчез между поленниц.
Оставшись одни, дружки сели и прижались спинами к дровам. Алешка стал отдирать полотнище флага от деревяшки, а Андрейка, нахмурившись, ворчал:
—г Завел, чертов зулус, а сам смылся. Бросай ты к шуту свой трофей и давай-ка лучше, пока не поздно, тягу подальше отсюда!
Алешка окрысился:
— То есть как это — бросай?
— А на фига он тебе сдался? -— На память возьму.
— О чем? Как тебя чиновник зауживал, что ли? Алешка во второй раз был вынужден задуматься,
но уже спокойнее: зачем ему флаг и что же дальше с ним делать? И бросить жалко, и Андрейка вроде прав. А тот продолжал зудить:
— И не вздумай домой тащить, а то дяде Мите расскажу. Он тебе такого лекарства пропишет, что сам и белым и зеленым станешь и про зулусов забудешь!
— Да что ты все: зулус, зулусы! Мишка нас выру-чгш, а ты про него же и несешь. Он-то вот, сразу видно, что настоящий парень.
— Еще бы! «Ах, храбрый бедуин! Позвольте познакомиться. Если вздумаете чучело делать, вот вам моя рука». Ну и оставайся со своим настоящим, а я пошел!
Андрейка явно приревновал друга к бедовому чистильщику. Он совсем собрался уходить, но вдруг уставился на Алешку и присел на корточки: - Постой, постой!.. А что если, верно,— чучело! А?
Ведьма с колчаковским флагом
Комендантский час. Час, после которого город, будто его схватили за горло, с хрипом замирал и глох. Еще какие-то минуты суетливо пробегали к своим домикам прохожие, не имеющие пропусков; в домах закрывались ставни; извозчики, тарахтя пролетками, гнали вскачь лошадей, наспех ссаживали запоздавших седоков и исчезали в темноте. Потом все затихало. Улицы становились пустынными. Только было изредка слышно цоканье тяжелых кованых копыт конных патрулей.
В большом здании гарнизонного штаба и около него после проводов иностранных гостей тоже все притихло. У подъездов не урчат, как днем, блестящие черным лаком, словно уланские сапоги, автомобили. Не фыркают на поводах у коноводов офицерские скакуны.
Лишь один постовой, царапая прикладом винтовки тротуар, ходит от угла до угла мимо палисада с кружевной чугунной оградой. Расстояние вымерено скучными, однообразными, как качание маятника, шагами: шестьдесят туда, шестьдесят обратно. Темь и тишь вокруг. Две лампочки на фонарных- столбах против центрального подъезда светят больше под себя, чем в стороны. Ни тебе глянуть на что-нибудь интересное, ни тебе дорогу штыком кому-нибудь загородить. Вот дремота и берет. Хотел было развлечься — мимо бегущего парнишку за шиворот сцапать: «Ты куды в ночь? Приказу не знаешь, пащенок?!», а тот в ответ жалобно этак: «Я, дядя, в аптеку!» — и шмыг вьюном в обгон, после за угол и концы в воду.
Но не заметил солдат-часовой, что конец-то после парнишки остался. И длинный. Крепкая черная нитка легла вдоль тротуара, начинаясь дальше шестьдесят первого шага...
Только прошел часовой светлые круги от лампочек против главного входа, как навстречу в полутьме— «.„свят, свят, пресвятая богородица!» — прет что-то несусветное. Человек не человек, по росту вроде и схож, а рожа, упаси господи, страхолюдная: зубы ровно у черепа от уха до уха, заместо носа черный крюк, один глаз с кулак и навыпучку, а на лбу белая кокарда. Лезет чудище и флагом взмахивает, этаким же, как над штабным крыльцом прибитый, но до ремков драным. Вверх — вниз! Вверх — вниз! Только лоскуты взметываются. Значит, живое оно, чудище-то, если и ходит и машет! Остаповал солдат-часовой: хочет крикнуть насчет пропуска, а не может. Горло перехватило. По пятился, еле смог свисток до губ дотянуть, да так засвистел, что и разводящий и прапорщик — караульный начальник—вперегонки побежали узнать, по какому случаю переполох поднят. А солдат только мычит и пальцем перед собой вперед тычет.
Глянули карнач и разводящий в ту сторону и тоже осеклись, шуметь перестали. А чудище еще -ремошным флагом повзмахивало, на месте приостановилось, а потом потихоньку вроде и к ним двинулось. Разводящий сразу за часового, прапорщик — за разводящего и из-за спины, как петух молодой, голос сорвавший, хрипло заверещал на солдата:
— Что, дурак, рот раскрыл! Слушай команду: на руку! С подбежкой в четыре шага, ко-ли!
Перекрестился солдат: «Чур, чур меня, нечистая сила! Выручайте, святители-угодники!» — зажмурился, бросился с подскочкой вперед и сделал винтовкой штыковой выпад... А штык ни на что твердое не наткнулся, прошел как через паутину, и все. Взвыл истошно солдат, выронил винтовку и упал без памяти на бок.
Карнач, хоть рука и вздрагивает, разводящего в затылок кулаком:
- Он идиот, деревенщина, темнота, а ты старослужащий. Двигай ногами. Марш вперед. Узнать, что там за гадина, и доложить!
А разводящий задом карнача жмет и вразлад бормочет:
— Ваше благородие, несусветица... Как на свое знамя, да со штыком!.. А к тому ж, там вдруг... динамит заложенный.
— Ты что, тоже с винта соскочил? Про какой еще динамит выдумал, откуда?!
Тут на парадное крыльцо и дежурный по штабу офицер выскочил:
— Что за шум?
Прапорщик-карнач перед ним навытяжку, пальцами не под козырек, а себе под ухом царапает:
— Н-непонятное явление, господин штабс-капитан! Двигающаяся фигура... Есть подозрение...
Офицер сбежал с крыльца и глянул вдоль тротуара: — Молокосос! Гимназист! Сами вы не караульный начальник, а явление. Всмотритесь! Большевистских штучек не распознали. Они не только листовки расклеивают.
Молоденький карнач выхватил шашку, кинулся на фигуру и стал яростно рубить, выкрикивая с привизгом:
— Штучки?! Листовки?! В куски! В крошево!
Первым на обочину мостовой отлетел кусок «головы»—недозрелой тыквы, а от него отскочила половинка скорлупы гусиного яйца с нарисованным зрачком. Затем на тротуар посыпались «зубы» — отбитый край белой тарелки, шматки рогожи. Но вдруг клинок скрежетнул о металл. Чудище упало вместе с драным флагом прямо на было очнувшегося и приподнявшегося на четвереньки солдата. Тот снова завопил: «При-май душу, господи! Поташ-ш-ыла!» — и опять упал, закрывая голову руками.
Прапорщик в припадке яростной злобы начал бешено пинать солдата, а вместе с ним и свое белогвардейское знамя. И тут стало окончательно ясно, что у него под ногами, рядом с солдатом, сбитое на бок с четырех колесиков туловище детского деревянного коня, в спину которого вставлена высокая крестовина. Выходка храбреца-карнача вначале развеселила штабс-капитана, но потом он строго прикрикнул:
— Отставить, прапорщик! Припасите свой пыл для фронта, для маршевой роты. А теперь вызвать комендантский взвод. Оцепить ближайшие кварталы. Всех задержанных прямым ходом к Линчевскому. Он-то уж умеет любое непонятное понятным сделать. Советую на досуге поприсутствовать.
Офицер исчез за дверью штаба.
А вдоль тротуара, рядом с невидимой ниткой, полз избитый, напуганный темный солдат, все еще боявшийся поднять голову.
В седле или о хлюпкой?
Воскресенье. В такой день базар шумит сильнее обычного. Голосистее становятся тетки в пирожковом ряду и ребята, разносящие в закутанных четвертных бутылях сырую холодную воду по копейке за стакан. Прибавляется работы и Елизарычу. К тому же в его пятиминутке новинка: вместо «ромашки» — «незабудки». Такая же мешковина с дырой посредине, но вокруг вместо длинных лепестков «любит не любит» нарисован полувенок из незабудок, а от него в разные стороны не то облака, не то клубы дыма, разрываемые зигзагами молний.
На каждой готовой карточке красивыми буквами было написано: «Не забудь!». Новинка пришлась по сердцу многим. Посетительницы шли одна за другой. Но некоторые, высунув лицо из дырки, просили:
— А нельзя ли, Никаиор Елизарыч, чтоб одни бы цветики, без ужастей этих вокруг, молниев разных?
Елизарыч грозно поднимал вверх палец:
— Нельзя. Замри! —А когда выдавал карточку, уже ласково вразумлял вполголоса: — Баба ты баба и есть. Ведь, поди, мужу или сударику на фронт пошлешь, а для его такой фон самый подходящий. Он враз поймет, что болит у тебя за пего душа и не хочешь ты никак его погибели от снаряда или гранаты в рядах белого воинства. Ну, а если и не на фронт, а тут в тылу кому,— опять же этот пейзаж понять можно со значением. Все одно грозы вскорости не миновать, так пускай грома не боится и подумает, где ему быть; в кустах хорониться или на путях-дорогах вместе с другими мужиками шагать.
Слова «фон» и «пейзаж» окончательно убеждали, и тетка уходила, бережно пряча фотографии за пазуху.
Большинство «незабудок» были неграмотны, и те, кто побойчее, просили фотографа:
— Ты б еще окромя «не забудь» какие слова пожалостней добавил, а?
— Это, дева-матушка, невозможно, а вот если от руки и на обратной стороне...
— Сделай милость, хучь и с обратной!
Какие «жалостные» слова писал Елизарыч, узнав, куда и кому пойдет карточка, оставалось известным только ему одному.
...Увидев Андрейку и Алешку, Елизарыч, как всегда; приветливо помахал им рукой:
— Набегались-налетались, орлы? Животы, небось, подвело? Время-то к обеду. Нате-ка вам рупь-целко-вый да слетайте еще в ряд пирожковый. Нынче у меня дела в прибыток, можно и кутнуть. Лимонаду похолодней прихватите.
Орлы вихрем понеслись в базарную толчею и быстрехонько вернулись с добычей — грудой любимых мяо. ных горячих пирожков и тремя бутылками не менее любимого лимонада. Елизарыч вывесил на черной стороне своего фото ящика белую картонку со словом «Обед», и все трое расположились на расписанном под мраморную парковую скамью деревянном диване.
Рядом, на таком же «мраморном» полукружии, которое служило краем бассейна, когда были желающие сниматься «при плавающих лебедях», уселись две тетки, решившие переждать обед в пятиминутке и занять первую очередь.
Дружки в упоении расправлялись с пирожками и лимонадом, и им было совсем не до теток с их разговорами. Но вдруг Алешка чуть не подавился, насторожил уши и с полным ртом стал показывать Андрейке через плечо пальцем на непрошеных соседок.
Одна из них, понизив голос, сообщала другой:
— В народе-то слух идет: ведьма намедни прилетала.
— Ну?!
— И прямо-те, милая ты моя, хлоп на мостовую против гарнизонного штабу. Помело вверх подняла, а на нем флаг ихний, только в лоскут весь драный. — И дале чо же?
— На мостовой-то в рост, ровно солдат, вытянулась и к подъезду. Часовые ей штыки навстречу: «Ку-ды, бабка? Пропуск давай».— «А я,— говорит,— с фронту. К вашему начальству с победным донесением». Ну, те — свое: «Ничо не знаем, пропуск предъяви!» А она па них одним-то своим глазом ка-ак глянула, часовые враз прысь в стороны. Ведьма-то на крыльцо и прямо к главному енералу. Тык ему в бороду помелом с драным флагом. Того сразу-то икота взяла, а потом бац — и врастяжку. Шесть докторов до сей поры отхаживают.
— Страх-то какой, батюшки! Только врут, поди? - Врут не врут, а зря говорить не будут.
Алешка не вытерпел и забормотал, как индюк с набитым зобом:
— Вот чепухи нагородили — не пролезешь! И откуда про помело выдумали, когда мы с тобой его и не со-бир...
Но тут друг показал ему кулак и заткнул рот половинкой пирога. От глазастого Елизарыча эта сценка не укрылась, но он сразу ничего не сказал, а только прищурился. Потом приподнялся и повернулся к теткам-колотовкам.
— Ежели у вас, голубки-сударушки, на базаре еще какое заделье есть, сходите. Потому как раньше чем через час на вашу распрекрасную наружность объектив нацелить не смогу. Кое-что в аппарате подправить надо. А насчет очереди не тревожьтесь, за вами первая и останется.
Голубки-сударушки заворковали слова благодарности и спорхнули с края «мраморного бассейна». Ели-зарыч сел на место, доел пирожки, вытер масленые пальцы, закурил и не спеша выпустил из ноздрей две струи дыма:
— М-да! Об этой самой ведьме по всему базару второй уж день гул идет.
Андрейка недоверчиво посмотрел на него. — А вы что, поверили?
— Тут вопрос не во мне, а в другом. — В чем?
— В том, что зачем тебе надо было Алексею- пирожный кляп в рот толкать, когда у него, почитай, и так полный был, и кулаком грозить? И еще одчя есть: когда и куда она к вам на знакомство прилетала и как вы у нее помело сперли? Ась?
Ребята, словно ужаленные, вскочили на ноги: — Никто не прилетгл! — Никакого помела не видели! Из носа Елизарыча, как из двухтрубного парохода, еще гуще повалил дым:
— А без крути-верти можете? Допивайте-ка лимонад и выкладывайте все начистоту. Этот негатив полного проявления требует.
Деваться было некуда, и друзьям пришлось выложить все. Елизарыч слушал, не перебивая, и только в самом конце потребовал уточнения:
— А как у вас чучело флагом замахало? Андрейка даже обиделся:
— Подумаешь, механика! Кривошип вниз от крестовины, а к нему нитка через два ушка. Как дернешь, так и палка с флагом вверх прыгнет.
— А кривошип где взяли?
—- Дома, конечно. Что вы, батину мастерскую не знаете? Там в углу железяк всяких целая куча.
Елизарыч хорошо знал полутемную пристройку в доме Тимофея Максимовича, которую хозяин просто называл- боковушкой, а Андрейка величал мастерской. Пристройка и впрямь была похожа на маленькую мастерскую: верстак, тисы, наборы столярных и слесарных инструментов, развешанных и разложенных в строгом порядке, и даже небольшой токарный станок с ножным приводом, как у точильщиков.
В боковушке Тимофей Максимович в свободные от работы часы просто так, для души, строгал и точил, клепал и паял. Но всегда нужное для дома или для соседей и друзей. Андрейка, сколько помнит себя, столько помнит мастерскую. Недаром, как рассказывает мать, отцовские приятели посмеивались: «Сын-то еще е люльке, а Тимофей ему заместо соски рашпиль сует». Трехлетний Андрейка орал в полный голос, если его не пускали помогать бате. Около верстака в боковушке сиживали не только сын, усердно скребущий наждачной бумагой ржавчину с какой-нибудь железки, но бывали и взрослые — те, кому надо было поговорить с хозяином один на один, без свидетелей. Сиживал у вер-стака и Елизарыч. И подолгу. И теперь, при упоминании «мастерской», он вы
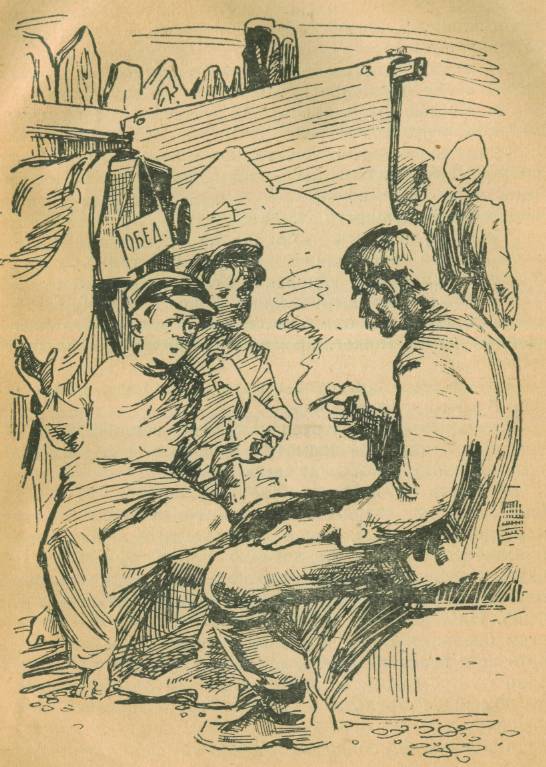
тащил из пачки с красивой картинкой «Тройка» еще одну папиросу, но не стал ее прижигать, а начал медленно разминать.
— Значит, отцовское обучение вспомнил? В одном месте науку проходили, только я не по механической части. Из той самой боковушки Тимофей-то Максимович мне через тыщу, может, стрелок путевых да-але-кий семафор показал. Потому как у каждого человека свой семафор должен быть. Вот гляжу я на вас и думаю: ваши-то семафоры совсем близко стоят, а что из каждого в будущности станет?
Ребята удивились. Они ждали от Елизарыча совсем другого «проявления» — суровой нотации. А он, будто не заметив их удивленных глаз, продолжал:
— Вот вы про выручальщика своего Мишку-негра рассказывали, так он, хоть сейчас и всяким белякам сапоги чистит, может, профессором по географии будет. А вы?
Ребята было прыснули в кулаки: Мишка — профессор! А потом и задумались.
Елизарыч еще повертел папироску в пальцах, для чего-то с прищуркой посмотрел сперва в ее мундштук, потом в набитую табаком часть.
— Взять хоть Алешу. Характер, вроде, что надо. Смел. На руку твердый, и глаз остер, не зря в метка-чах бабочных ходит. Коней до полусмерти любит. Сам прямо-те в мировую революцию рвется, флаги кол-чаковские рушит. Только одно покуда в разум не возьмет: охлюпкой, без упористого седла, далеко не ускачешь. Иль про тебя, Андрей, разговор повести: тоже всем берешь и опять к разной технике-механике тягу чуть не с пеленок заимел, а... купоросу в тебе еще не один фунт с гаком. А может, пора вам подумать, как бы поменьше стрелочников беспокоить и короче к своим семафорам выйти. Ась?
Андрейка над вопросом Елизарыча даже и задумы ваться не стал.
— Я давно решил: шофером буду!
Перед Алешкой вопрос «кем быть?» возник впервые. Он никогда над ним еще не задумывался. Жил себе и жил. Но тут отставать от Андрейки было никак нельзя.
Внезапно вспомнив про свое недавнее вранье об отце и дедушке, Алешка выпалил:
— А я жокеем на ипподроме. Ка-ак понаддам — . пыль сзади из-под копыт завихрится. Пускай тогда Андрейка попробует обгонит. И... еще хочу революционером стать. Не охлюпкой, а настоящим. Чтобы за народ. Чтобы никого не пороли и не били.
Андрейка вскипел:
— Революционером и я не хуже тебя буду. А насчет обгонок — заткнись! Автомобиль по сорок верст за один час пробегает, так что пыль не мне, а тебе со своим бегунцом...
« Елизарыч не дал Андрейке все выпалить.
— Цыц! Ишь, ровно два кочета перья натопорщили. Что машина, Алеша, коня обгонит, как это тебе и не поперек души, а все одно: опередит. И очень даже в недалеком времени, еще и жениться не успеешь. А вот кто кого из вас в жизни обгонит — совсем другая статья. Но опять же думаю, что в обгонки вам бечь резону немного. Лучше б, ежели кто в гору выдохнется, плечом другого подпереть, на загорбок взять иль еще как помочь. Впереди-то у нонешних ребят жизнь на полный простор, аж тебе за всякие горизонты развернется. И всякое в ней встретится. Дружба, глядишь, и сгодится. Великая в ней сила. Все одно: иль когда в гору, иль когда на пулеметы рядом бегут.
В своей дружбе, хоть и могли на десять рядов поругаться, ни Андрейка, ни Алешка не сомневались, а вот о горизонтах и что за ними...
— Какой простор?
— Куда развернется?.
А Елизарыч, словно снова стал молодым задорным парнем, вскочил со скамьи и в полный размах раскинул руки:
— Во-о какая Ни в один объектив, пускай хоть в аршин, враз не разглядишь. Полная тебе справедливость, ни буржуев, ни прочих капиталистов, и никто из человеков ни на ком таком же верхом не ездит и в пот не вгоняет. И все грамотные, и все при своем месте. Кругом повсюду на общее дело работают, чтоб на всей земле всем людям жить да радоваться. В общем, га самая, за которую русский рабочий класс в семнадцатом годе борьбу не на живот, а на смерть объявил, а Тимофей Максимович сейчас в тюрьме вшей кормит, а Дмитрий Палыч и еще некоторые другие.,,— Тут он осекся, круто сел на место и взапых закурил.— Только в этом деле срок нужен. Не враз. И наипервейшая заноза в революционном теле—Колчак Туго подается, да все одно, как за кожу народную ни цепляется, а выдернут.
— Скоро выдернут?
— Говорю, срок придет. Покуда сила за им, за Колчаком, стоит огромная. Весь капитал мировой. Все ихние державы. Одно слово: Ан-тан-та! — Елизарыч снова загорелся и стал похожим на оратора не таких уж давних шумных митингов первых дней революции.
— И ежели наш трудящий народ энтой чертовой тетке рабочим кулаком и мужицким лаптем по морде наподдает, да так, чтоб ейные рогатые внуки и правнуки помнили, будет тогда народу нашему почет и слава от всего трудящего человечества!
Так, на равных, с Алешкой и Андрейкой из взрослых еще никто не говорил. Ничего нового для них, собственно, и не было сказано. Про мировых капиталистов, поо Антанту они слыхали не раз. Но про Антанту в образе чертовой тетки и ее рогатых внуков с поджатыми хвостами слышали впервые. А какая после
кулака и лаптя у нее станет в клеточку с синими разливами напомаженная рожа, представили себе уже совершенно ясно. Алешка, хоть и загорелся весь не меньше, чем размитинговавшийся Елизарыч, все же на этот раз даже раньше, чем осторожный Андрейка, оглянулся вокруг:
— Никанор Елизарыч, вы бы потише!
— На короткий повод берешь? Правильно, маленько удила закусил. Ну, да ьозле нет никого. Растревожили вы душу с ведьмой этой. Вот и располыхался. Но смотрите: о чем говорено — ни гу-гу!
Такой обиды дружки не ожидали.
— Что мы, маленькие, не понимаем, да?
— Маленькие не маленькие., а не все додумали. С одной стороны глянуть, так для прослуха в народе дело-то вы и не малое сделали, для агитации. Вон чего бабы на базаре вокруг чучела-то понакрутили. И солдат тот напужанный до самой смерти помнить будет, как ему офицер за свой же приказ пинками ребра перебрал, и навряд ли за прапорщика грудью теперь в защиту станет. Но есть и другая сторона: главному штабу-то срам? Срам! И большой. К самому подъезду драный ихний флаг выставить да еще и караул охмурить! Значит, никак не иначе, а приказ поступил: «Найти и доставить!» Тут уж Линчевский рад стараться — весь город и окружность перешерстит. Кабы вы беды не накликали. Доведется с Дмитрием Палычем совет держать. Как ты, Алеша, думаешь, а?
Алешка гордо приподнял плечи:
— Можете не беспокоиться. Если так нужно, я и сам папе расскажу!
— Ну, тогда — лады! По рукам! Обед кончается, моментальная фотография открывается. Пожалуйте, господа и дамочки, изображаться в полной красе и любой рамочке.— И Елизарыч снял белую картонку со стенки своего громоздкого аппарата.
— Никанор Елизарыч, а кто такой Линчевский?
Елизарыч, уж было нырнувший головой в нутро черного фотоящика, сразу вывернулся наружу:
— Теперь ты, Алеша, голос принизь. Не в испуг, а все ж не ори. Волк он матерый, только наодеколоненный. Главный по губернии истязатель и палач. Начальник контрразведки. Смекаешь?
Так вот кто хозяин Рубина!! Перед Алешкой, как живые, возникли дивный красавец-конь и кривозубый каратель-урядник. Он стиснул кулаки и молча зашагал через шумливый, орущий базар. Андрейка, как всегда, пошел рядом.
Выждав, когда из амбулатории выйдет последний больной, Алешка перехватил отца и рассказал ему все. И про встречу с Рубином, и про страшную урядничью плеть, про «негров» и Африку на главной улице, про содранный флаг, ночное чучело, разговор с Елизары-чем и его опасение насчет могущей прийти беды.
У отца во все время Алешкииого горячего рассказа , опять были внимательно-настороженные глаза, только уже без играющих искорок.
— За такие фортели надо бы тебя выдрать по всем правилам, как Сидорову козу. Ну, а за то, что мужества не теряешь и всю правду рассказал, что ненависть в тебе к уряднику и таким, как он, возникла,— ремень пока снимать не буду.
У Алешки как два кирпича с плеч свалились. И совсем не из боязни выволочки. Он понимал, что разговору еще не конец. Так и вышло.
— А сейчас решим: в город тебе какое-то время ходить не надо. Андрею тоже стоит поменьше по городским улицам бегать. И займитесь вы чем-нибудь другим. Успевайте по теплу купаться, читайте. Я вам книги достану. Про путешественников. Хотя бы о нашем Миклухе-Маклае. Слыхал о таком?
- Нет,
_- Вот и прочитаешь. Не менее интересно, чем про Ливингстона в Африке. И еще: возобнови-ка ты свои бои в бабки.
...Попробуй тут и разберись. Елизарыч, хоть и с оговоркой насчет охлюпки, а вот-вот и в мировую революцию возьмет, а отец... о бабках!
Вечером, перед сном, Алешка вышел на улицу и заметил, что в огороде у калитки отец стоит с каким-то человеком, а когда калитка скрипнула и человек оказался в просвете между ее столбами, то оказалось, что он очень похож на Елизарыча. Неужели он? Значит, не поверил? Значит, он-то, Алешка, о котором ребята-«зулусы» хотят сложить песню, все-таки не в седле, а охлюпкой?
Патрончики
Совет отца о возобновлении бабоч-ных боев опоздал. Бабки внезапно потеряли свою ценность. Среди бабочных королей, вроде Федьки Косолапика, началась паника. Они заключали между собой союзы, снизили стоимость гнезда, но ничего поделать уже не могли.
Новой главной ценностью у мальчишек стала отстрелянная винтовочная гильза — патрончик.
Гильз было намного меньше, чем бабок, и они не пополнялись из домашних холодцов. Их надо было выпрашивать у солдат, да и то только в обмен на махорку.аИ раньше, чем в кармане начинали перезваниваться несколько медных пустышек, приходилось провести сложную цепь обменных операций. Тем-то они и были дороже любого панка.
Андрейка, крутя в пальцах патрончик, с большим трудом добытый Алешкой, недоумевал:
— И чего с ума посходили? Из него даже пугача
не сделать. Был бы нестреляный, вот тогда другое дело.
Алешка злился: ...
— Ни шута ты не понимаешь! Знаешь, какой кон получается? Как ряд выставится — залюбуешься. Блестит, словно золото!
И дружки начинали вместе обдумывать способы добывания патрончиков.
Недалеко от кирпичного завода расстилалось поле. Называлось оно по-строгому: «Казенные огороды», а иначе «полковые» или «гарнизонные». Работать на огороды часто пригоняли солдат. Тут, повозившись в земле, солдаты становились добрее, шутили с ребятами, пуляли в них морковью и брюквой и, нет-нет, да и одаривали заветными гильзами.
С солдатами ребята быстро находили общий язык, по зато никакой дружбы не могли завести с огородными сторожами, вооруженными не только дробовиками, но и винтовками. На огородах был участок, который особо охранялся: арбузные бахчи. Эту часть даже обнесли с двух сторон оградой из высоких кольев и па-тянутой между ними в несколько рядов колючей проволоки. Никто из искателей гильз не думал покушаться на зреющие арбузы. Но по-другому думали сторожа. Просьбы ребят «Дяденька, есть патрончик?!» принимали как хитрость и грозились: «Знаем, архаровцы, какие вам патрончики нужны —полосатые. А ну-ка, брысь отсюдова!»
Ребят возмущала такая несправедливость, и вражда нарастала. До высшей точки она дошла в день, когда у Алешкиного гулыбннского дружка Ильки вздулись лопухами уши. Как-то один из сторожей — горбатый дядя с кривым носом,— шаря в карманах, поманил Ильку к себе. Тот подбежал, думая, что получит хоть один патрончик, а горбач схватил его, свирепо оттаскал за уши и пинком вышиб на дорогу. Такую обиду нельзя было оставить без отплаты.
Алешка и Андрейка стали сколачивать отряд. В пего вошли самые бедовые охотники за патрончиками.
Первое отрядное собрание состоялось на боровой поляне между Гулыбинкой и Кирпичным поселком. Без шума и споров главным выбрали Алешку, помощником— Андрейку-. Но отряд должен был иметь название. И вот тут-то поднялся галдеж. Каждому хотелось, чтобы название было его. Кричали долго и разное, но в конце концов приняли Андрейкино «Каюк арбузам!». Об отрядном знамеыи договорились быстро. Пусть будет не флаг, а бунчук, как в Запорожской Сечи. А сделать его совсем легко — привязать к палке дохлую ворону и несколько арбузных корок, чтобы вместе свободно могли болтаться. Чем не бунчук? Не хуже всамделишного. И к названию отряда подходит. Носить бунчук, чтобы никому не было обидно, решили по очереди.
Первые набеги прошли успешно. Проводили их только тогда, когда дежурил Илькин обидчик. Действовали наверняка. Одна часть отряда, под командой Андрейки, маячила с бунчуком напротив шалаша и отвлекала на себя внимание сторожа, а другая, во главе с Алешкой, в это время на противоположной стороне бахчей таскала арбузы.
После каждой вылазки в подлеске около бора начинался пир на весь мир. Наедались так, что выпученные животы становились похожими на арбузы. Не от жадности, а на спор: кто больше съест.
К отряду стал притираться Севка Обсосок. Вначале ребята его гнали, бросали в Севку недогрызанными корками, а потом благодушно решили: «Шут с ним! Арбузов на всех хватит. Обсосок—вертучий, в любую дыру пролезет!» И Севка стал стараться что есть мочи: больше всех дразнильщиков ломался и кривлялся перед шалашом сторожа, а потом незаметно исчезал и, пробежав чуть не версту вокруг, успевал вместе с «добытчиками» обрывать и хватать арбузы.
С каждым налетом ребята все больше и больше смелели. Сторож-горбач зеленел от злости, но никак не мог управиться на две стороны. Алешка торжествовал: на-кось выкуси, шалашник! Будешь знать, как за уши хватать!
На отрядном собрании было решено провести последнюю, но опустошительную операцию — «Полный каюк бахчам».
Организовали все так же, как и раньше. Только «дразнилыцики» еще яростней орали на подступах к колючей ограде против шалаша сторожа. А Севка Обсосок так здорово и похоже каркал: «Кар-р-р, кар, к-кара-ул!», что казалось — ожила и вспархивает ворона, повисшая на бунчуке. Алешка повел в обход добытчиков. Раньше других он подкопался под нижний ряд проволоки и змейкой пополз с мешком между узорных арбузных плетней. Первый арбуз скользнул в мешок, за ним второй, но когда рука потянулась к третьему... ему чуть не в упор, между глаз, уставился ружейный ствол.
Алешка, не выпуская мешка, крутнулся наутек, но сзади грохнул выстрел. Десятки шершней впились в зад. Как подброшенный пружиной, непомерным прыжком Алешка перемахнул через ограждение, не зацепив ни одной проволоки. Сторож только ахнул вслед: «Ну шельмец! Эка сиганул!»
Неудача операции «Полный каюк бахчам» объяснилась просто: на этот раз сторожей оказалось два, а не один, как всегда. А почему? Об этом тогда никто из ребят не подумал.
Полный заряд бекасинника почти весь попал в цель.
В сосновом подлеске, где проходили арбузные пиры, Алешка мужественно без рева, стянул с себя изрешеченные штаны.
* Бекасинник —самая мелкая дробь.
— Андрей, многоперышный у тебя с собой?
— В кармане. А тебе от этого легче, что ли, станет?
«Многоперышный» —Андрейкина гордость, подарок его отца — перочинный нож, в котором есть не только разные лезвия, но и отвертка, и шило, и ножнички.
— Открывай шило, вынимай!
Андрейка, морщась и закусывая губу, стал деловито выковыривать одну за другой дробинки из пухнущего задка друга. Дома, под мамины охи и ахи, отец только и сказал:
— Зря дробью всыпали. Надо бы солью. -И, вынув пинцетом оставшиеся дробинки, добавил: — А теперь не ори, йодом мазать буду.
Пока Алешка лежал в постели на животе, отряд «Каюк арбузам» без вожака стал разваливаться.
Андрейка, каждый день навещавший друга, сообщал:
— Что бунчук выбросили — правильно. Ворона завоняла— нос воротит. Подразнили сторожей — и ладно. А вот что ребята в отместку за тебя весь огород хотят перековырять — это зачем? А больше всех про морковку и огурцы твой гулыбинский дружок орет— Илька Клейменый. Не успели уши отойти, а снова туда же... Из-за него ребята уже два раза чуть в драку не полезли.
Андрейка уходил, а Алешке только и оставалось — проклинать чёртова сторожа с его ружьем и думать. Если Илька хочет отомстить за него, Алешку,— разве этр так уж плохо? От души ведь хочет, по-товарищески. Зря Андрейка шипит. И никакой он не клейменый, а хороший парнишка — Илька Осипов. Ребята дали ему кличку не со зла, а потому, что у него на рубахе, сшитой из белого мешка, на самой спине не отстирывающееся большое синее клеймо в рамке: «Мука круп-
чатка. Карелин и К°». А другой рубахи у Ильки мету. Вот и носит.
Думалось обо всем, что успело с ним случиться за короткое время: про флаг с главной улицы, чучело, набеги на бахчу. А когда мысли доходили до самого последнего, до выстрела бекасинником, то начинали крутиться на одном месте. Почему вдруг, ни с того ни с сего, вывернулся второй сторож? И все четче и четче вспоминался момент: вот чуть не в переносицу уткнулся ружейный ствол, вот он схватил мешок... но с чего в этот же самый миг поодаль в разлапистых ползучих зарослях подпрыгнул и скрылся арбуз, очень и очень похожий на стриженую голову? И в конце концов Алешке стало ясно. Иначе и быть не могло: в бахчах, позади сторожа, привскочил не арбуз, а высовывалась стриженая башка Федьки Косолапика! Он же и Севку в отряд подослал. Недаром Севка так старался. И каркал не зря — сигнал подавал. Ладно, Косолапик, встану— встретимся!
Приняв такое решение, Алешка перестал думать о Косолапике. И все чаще вспоминался Елизарыч с блестящими по-молодому глазами и широко раскинутыми руками: «Жизнь-то? Во-о какая будет!» И начинались мечты о далеких горизонтах и о том, что может быть еще дальше, за ними.
...Где-то на другом полушарии, в далекой жаркой стране, на острове вспыхнула революция. Но антан-товцы-плантаторы не сдаются, палят из пушек и пулеметов, ядовитыми газами губят восставших трудящихся. И вот Андрейка и он, Алешка, мчатся на огромной машине, которая вместе и автомобиль и пароход. Они пересекают реки, моря, океан, едут без дорог по тропическим джунглям, помогают прогнать буржуев-плантаторов, повыбрасывать их в море и установить справедливую, хорошую жизнь. Когда же возвращаются домой, их встречают тысячи людей, и все машут красными флагами, а в первом ряду — Илька в красивой
вышитой рубашке. А они всем людям раздают привезенные в подарок от островитян бананы, ананасы и кокосовые орехи...
Может быть так на самом деле? Почему и нет? Вон Андрейка уже твердо решил, что будет шофером, и машину такую, конечно, сможет выдумать. Ясно, что и ему, Алешке, придется поучиться, как ее водить. На коне-то ни до одного острова не прискачешь. Зря он тогда насчет жокея бухнул. Не будет он никаким жокеем, а будет... будет все-таки медиком, как отец. Только уже не фельдшером, а доктором, и таким, чтобы всех, кто заболеет, вылечивать в один день...
Место, куда так точно попал сторож, продолжало гореть и зудиться. Отец утром и вечером приподнимал простынку и строго сдвигал брови:
— Лежи и не ворочайся.
Бабушка Мотя, оторвавшись от своих бесконечных кухонных дел, присаживалась к нему на краешек постели.
— Ну что, прорешеченный, тяжко на пупу крутиться, а? Потерпи, освобожусь — сметанкой смажу.
И когда в одно утро отец после осмотра неожиданно сказал: «Хватит валяться, разминайся»,— Алешка, хоть и было еще больно, вскочил и запрыгал.
В тот же день во двор к Ильке Осипову сбежались ребята. Отряд собрался не весь, но зато пришли самые надежные.
Васька станционный, надвинув чуть не на нос козырек отцовской железнодорожной фуражки, заявил:
— Надоело. Арбузы да огурцы, огурцы да морковка. А гильзы, патрончики где? Вон пристанские ребята— каждый чуть не по сотне заимел, А мы? Против них нищие несчастные.
Васька был прав. Сразу же решили: — вместо «Каюк арбузам!» создать новый отряд. О. названии на этот раз не спорили, и, как только Илька предложил «Пистон», все его одобрили и согласились. Знамени было не нужно. Отряд создавался не для того, чтобы с кем-то воевать, а прежде всего— добывать. Добывать патрончики, чтобы никакие пристанские не задирали носы.
Приговор без слов
Стояли последние жаркие дни лета. Вот-вот ударят первые осенние заморозки. Скучное настанет время: грязь, слякоть. Одно слово — осень. И пока еще печет солнышко, пока не кончились школьные каникулы у тех, кому посчастливилось сидеть за партой, пока можно не думать, что же надеть на ноги, раньше чем выскочить на улицу, а мчаться куда хочешь босиком,— нужно успеть вволю набегаться. И прежде всего:
— Ку-у-па-аться!
Речка Паспаулка виляла между предстепным бором и холмисто-горной грядой, тоже покрытой лесом. Вдоль ее низкого берега и стояли дома Гулыбинки. В обе стороны от поселка вся прибрежная низина — в зарослях таволожника, жимолости, черемухи, смородины и малины. Было это все и за речкой, только на обрывистых-откосах добавлялась свирепая крапива-жи-гучка, против которой обычная огородная — вроде распаренного банного веника. Никто на откосы и не лазил. Очень и кому это надо — волдыри зарабатывать! В Пас-паулке хорошо ловилась рыба, а вода все лето оставалась теплой. И по берегам речки, и в ней самой кишмя кишело ребятни.
Прибежали на Паспаулку всем отрядом и «писто-новцы».
Алешка сдернул рубашку и штаны и стал подставлять солнцу то бока, то спину. И тут ребята, бултыхающиеся в речке, а за ними и свои «пистоновцы» заорали во всё горло:
— Меченый, меченый! Алешка меченый объявился* И со всех сторон кинулись считать, сколько у него «меченок».
Новая кличка, хоть «меченки» и гнездились почти все на заду, не была позорной. Мальчишки орали больше из зависти, чем от желания обидеть. Но все же Алешка рассердился, стал расталкивать ребят, чтобы скорее бухнуться в воду. Андрейка схватил его за руку.
— Постой! Тебе болячки-то можно мочить? Дядя Митя позволил?
А Илька стал тыкать пальцем в «меченки».
— Вон сколько коростин осталось еще. Намочишь, а они разлезутся, и снова кровь пойдет.
Отец про купанье ничего не говорил. Но после слов друзей Алешка и сам решил: в воду лезть рано. Хоть и было досадно и очень хотелось с разбега плюхнуться в теплую Паспаулку, он нахмурился, о чем-то подумал и стал натягивать рубашку,
— Ладно уж, купайтесь! — А потом шепнул Ан-дрейке: — Я пока на нашу поляну перебреду. По дороге ягод насобираю. Наплаваешься — приходи.
Заветная полянка была в полуверсте. Там Паспа-улка, круто вильнув, обошла высокий, ступенчатый вверху мыс. Откосы выступа грозно ощетинивались жигучкой. Казалось, сама речка шарахнулась от нее и, не став спорить, мирно оббежала вокруг. Но наверху, на последней ступеньке выступа, была чистая песчаная лужайка.
Добираться к ней было не так просто. Зато уж как доберешься, можно не думать и не опасаться, что кто-нибудь еще сюда заявится.
Нашел песчаную чистинку года два назад Андрейка. На ней можно было спрятаться ото всех-всех, остаться одному и думать о чем-нибудь своем или вместе с другом мечтать вслух, не заботясь, что кто-то услышит,
На эту-то полянку, найдя мелкий брод и надев штаны на другом берегу Паспаулки, и стал пробираться Алешка.
Узкую крутую тропку загораживали ветки черемухи с черными созревшими кисточками, цеплялись за бока кусты смородины с красными или темно-лиловыми ягодами. Пока Алешка добрался до чистинки, язык связала оскомина, а кепка была полна смородины и черемухи. Вот, наконец-то, можно снова снять рубашку, вытянуться на песке, поставить кузовком рядом кепку.
Но все обернулось совсем не так. Только Алешка раздвинул последние ветки кустов, как увидел, что заветная лужайка занята. И разыскали ее и заняли не кто-нибудь, а... Федька Косолапик и Севка Обсосок!
Федька, довольно урча, совсем голый, лежал на самом солнцепеке, а Севка, только без рубахи, посыпал его из горстей горячим песком.
На другой стороне жигучного мыса шла к речке почти отвесная промоина. Взобраться по ней Алешка и Апдрейка пытались не раз, но все впустую. Как ни карабкались, а песок вместе с ними сползал вниз, и ничего не получалось. Зато с чистинки к Паспаулке это был самый короткий путь. Рубаху и штаны замотать в узелок, сесть голышом вверху промоины и — вж-жик! Хоть песку и наглотаешься, а сразу внизу и лезь в воду, ополаскивайся, сколько хочешь.
Видимо, эту же прямую дорожку с чистинки к речке распознал и Федька. Иначе бы голяком в песок не зарывался.
Алешка от неожиданности вздрогнул и просыпал из кепки ягоды. Захотелось что есть силы закричать на захватчиков, но Алешка сдержался. Он тихо отошел назад и потом сквозь царапающие кусты ринулся обратно к ребятам.
...Федька, уже весь, кроме головы, засыпанный песком, не двигаясь, продолжал благодушествовать и, как кот, наевшийся досыта мышей, мурлыкал себе под
нос песенку. И вдруг Севкины пальцы сквозь песок судорожным щипком впились ему в пузо.
— Ополоумел?! Как сейчас трахну, так и ляжешь рядом! До вечера ноги не согн...— но тут Федька увидел, почему Обсосок так вцепился.
От кустов, на которых болтались его штаны и рубаха, и сверху, из леса, шли мальчишки, охватывая полянку плотной подковой. В середине выдвигались вперед Алешка, Илька и Андрейка.
Ребята шли молча. Медленно. Они не грозили, не размахивали кулаками. Но в этом молчании, неторопливых твердых шагах, прищуренных глазах было такое, что стало ясно: пришел час расплаты. Из леса шел мальчишечий суд.
Севка заскулил, а Федька вскочил и, серый от песка, похожий на ошкуренный дуплястый сутунок на кривых ножках, хрипло завыкрикивал:
— Вы что?! Вы зачем сюда?!
Но в ответ подкова только еще больше сжалась.
Севка дико завизжал, бросился чуть не на животе в ребячий строй, ящерицей проскользнул между ногами и исчез в кустах.
Заметался и Федька. Выискивая в окружении слабое место, он тараном выставил плосколобую башку и присогнул в локтях по-взрослому мускулистые руки. Из открытого рта высунулась и ходила по отвисшей нижней губе сизая лопатка языка.
И тут Алешка увидел, что зубы у Федьки такие же клыкастые и желтые, как .у бородатого карателя— урядника. Оди-на-ко-вые. И он еще тверже и резче, уже в полный шаг передвинул ногу. Шагнули и все ребята.
Слабого места не находилось. Федька, рыча, как ошершенный пес, стал пятиться. Под ногами все меньше оставалось места на захваченной теплой чистинке. А ребята так же молча все наступали и наступали. Нуть не вплотную он встретился взглядом с Алешкой.
И в Алешкиных глазах было столько презрения и решимости, что Федька не смог не попятиться назад еще. Отступил и... сорвался с обрыва.
Из зарослей свирепой жигучки раздался его истошный вопль.
Дома Алешка спросил отца:
— Если с обрыва по жигучке голый человек скатится, он от волдырей умереть может?
У отца слегка дрогнули кончики усов.,
— Смотря какой высоты обрыв. Если без переломов обойдется, а только обожжется,— температура может подняться, как при лихорадке, но во всяком случае это не смертельно. А теперь говори: кто, где скатился?
Как всегда, перед отцом Алешка не стал увиливать и отводить глаза в сторону.
— Федька Косолапик. На Паспаулке. Только мы, от противности, его и пальцем не тронули. Сам прыгнул!
— Значит,, загнали. За что? Ты Федьку обыграл и его же в жигучку? Непонятно.
— Бабки ни при чем. За бахчи. И опять отец сразу все понял.
— В отместку за проигрыш он к сторожам в наводчики нанялся? Так?
— Так.
— За разбойничество на бахчах тебе бы самому надо крапивой прочесать то место, куда бекасинником всыпали.
Алешка загорелся, отстаивая свою правоту:
— Нашел разбойника! Если б Ильку сторож обманом за уши не оттаскал, на шута нам его арбузы сдались! Мы о них и не думали! Мы патрончики искали. А тут иначе было нельзя. Понимаешь, нельзя! А Федька пронюхал. Севку Обсоска к нам подослал. Вот мне
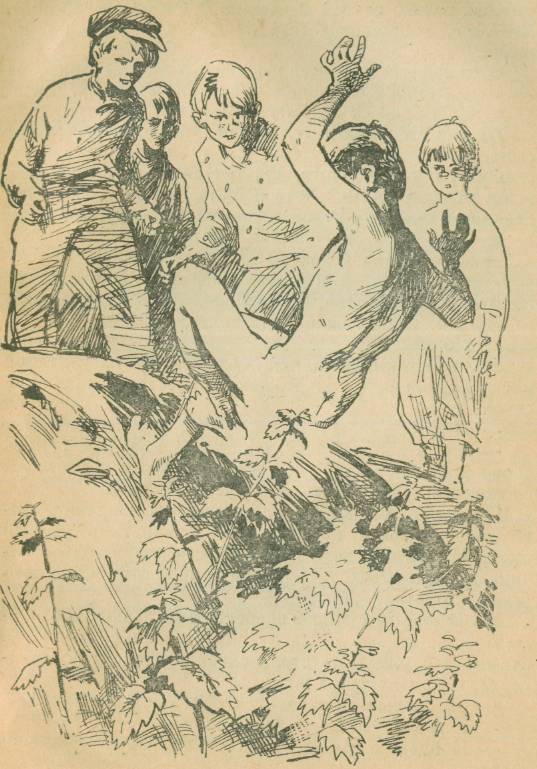
сторож, только другой, и влепил. А Федька сзади полз. Это тебе понравилось бы? Неужели понять не можешь?!
Отец ничего не ответил и ушел в амбулаторию, на крыльце которой скопилось порядочно больных. Алешка остался один со своими доводами и мыслями.
Не так уж давно — год назад — отец впервые, ради сына, снял поясной ремень. Тогда Алешка без спроса стащил у бабушки Моти, для запуска бумажного змея, юрок толстых ниток. Хотя и были нитки у бабки последние и очень ей нужные, она только отругала и дала подзатыльник. А отец, как услышал, выставил усы: «Ложись!» И над Алешкой зазвучал совершенно спокойный отцовский голос: «Не будь воришкой. Р-ра-аз! Не будь хапугой. Два! Не обманывай бабушку и никого другого. Три!» После счета «пять» спросил:
— Понял?
Было не так больно, как обидно. Разве он уж такой распоследний вор? И Алешка по-честному процедил сквозь зубы:
— Н-нет!
— Тогда получай еще плюс пять. Раз! — И ремень снова проехался там, где уже ныла кожа.— Теперь и сложение в арифметике лучше усвоишь. Два!
Продолжать задачу на сложение свыше десяти было уже невтерпеж, наступала пора заорать в полный голос. И поэтому, хотя правильность порки только начинала пониматься, Алешка на вопрос отца «Дошло?» угрюмо ответил: «Доходит!»
Но вскоре все пошло вперевертыш. Как-то из школы Алешка заявился с распухшим носом и синяком под глазом. Тут уже мать стала свивать жгут из полотенца. Отец призадержал жгут.
— Со сколькими схватился? По какой причине?
— С тремя. Чтобы не фискалили.
— Пойдем в амбулаторию. Свинцовую примочку сделаю.
Мать вскрикнула и запулила жгут под шкаф.
Тогда Алешка не сразу понял, почему за копеечную катушку бабкиных ниток — взаправдашняя порка, да еще и с поучениями, а за драку, за расквашенный нос, за которые совсем уже положено не «пять плюс пять», а все пять на пять — полных двадцать пять,— тщательная примочка и осторожное прощупывание носовых хрящиков. Но когда разобрался в этом «почему», глубоко в душе, твердо-натвердо во всем поверил в отца.
С той поры ремень для порки не снимается, и отец больше, да и то не часто, только говорит о ней. Взамен пришло другое. Прямой мужской разговор. В лоб. И только по правде. Но пока мешало одно: как бы стойко ни держался, как бы ни смотрел прямо в глаза отцу, а каждый раз какая-то махонькая жилка тбкала под коленкой и почему-то пробегал холодок в животе. И совсем не от воспоминаний о ремне, а от чего-то другого. Ведь нисколько не боишься, не жмешься, а все равно... Вот и сегодня, сейчас, когда рассказывал о суде над Федькой. Рассказывать рассказывал, а все же и холодок был, и опять тбкало. Алешка еще и еще раз об этом задумался. И внезапно будто радуга в голове от уха к уху перебросилась и осветила мозги внутри: правильно все, на то он и отец, чтобы тбкало. И всегда. Как же иначе?
На душе стало легко. Захотелось, минуя больных на крыльце амбулатории, влететь в «смотровую» комнату и прижаться к отцу, к его перелатанному белому халату, который мать стирает чуть не каждый вечер.
Но Алешка не успел еще и решиться на прорыв, как на улице раздался писклявый крик: «Фершал! Фершал где?! Срочно нужен!» В ограду вбежал запыхавшийся лавочник Зотик и стал оттаскивать от дверей амбулатории баб и мужиков, чтобы проскочить без очереди. На шум вышел отец. Зотик протянул к нему дрожащие тонкие руки.
—- Дмитрий Палыч! Сынка спасите! Один он у меня. Горит весь, медежами пухлыми пошел, глаз не видно. Зараза какая-то, видать! Я уж тут вам попервости... а потом все, что душа ваша пожелает...— и Зотик выхватил из-под жилетки какой-то сверток и стал совать отцу. Отец оттолкнул сверток.
— Зараза к сыну от вас перешла, гражданин Зотик. А называется эта болезнь — подлость. Умирают от нее редко, но бьют за нее часто. Поищите какого-нибудь другого лекаря. А меня, как видите, люди больные ждут.
Зотик взвил голос на самой высокой комариной ноте:
— Какие то ись люди? А мы рази не человеки?! — Вы? Нет. Просто... скверное подобие.
— По-одо-бие?! Энто вам запросто не пройдет! Я жалиться буду!
Но отец не стал дальше слушать Зотика, повернулся спиной и ушел в «смотровую». Больные на крыльце притихли и запереглядывались.
Это был первый случай, когда фельдшер Багров отказал в помощи,
Сухой лог
Предателю Косолапику было отплачено с лихвой, а вот со своей основной задачей отряд справлялся плохо. Попытались доставать гильзы за городом, на стрельбище, хоть до него было чуть не десять верст. Но на всех дорогах и тропках к полигону в оцеплении всегда стояли солдаты с флажками и грозились: «Катитесь отсюда, щенки, покуда не подстрелили. Гильзы все одно после стрельб в мешки собирают и в казарму увозят».
Неожиданно обнаружилось новое место — Сухой лог. Собственно, это был не один лог, а несколько длин-
ных, идущих из степи к бору, заросших бурьяном песчаных оврагов.
Никто из ребят там не бывал. Нечего там было делать. Но вдруг Сухой лог ожил. Ночами, перед рассветом, до Гулыбинки- доносились оттуда винтовочные залпы и одиночные выстрелы.
Стреляли. Значит, там и гильзы должны быть.
...Обрывки облаков то закрывали, то открывали кусок ущербной луны. Поселок спал. Но в тени плетня возле усадьбы Багровых одна задругой в тесную кучку собирались ребячьи фигурки. Алешка и Андрейка пересчитали ватагу «пистоновцев».
— Восемь. Станционных нет.
— Им далеко. Сегодня без них. Пошли!
Ночью бор, исхоженный вдоль и поперек, казался совсем чужим. Знакомые дороги и тропинки поворачивали не в те стороны, приметные деревья оказывались на других местах. От этих неожиданных перемен у ребят холодело под ложечкой. И они убыстряли шаги, . чтобы скорее выскочить из темной шуршащей гущи.
Наконец начался мелкий сосновый подлесок. Со степи повеяло свежим травяным ветерком. Ребята залегли среди сосенок и стали всматриваться в серую предутреннюю мглу.
А время, как назло, тянется и тянется. Захотелось спать.
Где-то на краю степи появились два бегущих огненных глаза, за ними вспыхнули еще два, потом третья пара. Они то вспыхивали, то проваливались, погасали, поворачивались в разные стороны. Вот уже слышен урчащий рокот моторов, яркие лучи полоснули по сосенкам.
Все ребята на четвереньках начали было пятиться под защиту темного бора. Но не так уж часто можно увидеть даже один автомобиль, а тут сразу три! Да
еще ночью. И они снова поползли вперед. Машин уже не стало видно. Надо продвинуться еще ближе. Как раз и луну закрыло тучей. Еще... еще... И вдруг послышался резкий голос:
— Сидоренко! Только без канители, выводи на откос. Быстро!
— Слушаюсь! Эй, вы, краснопузые, вылазьте. Приехали!
Алешка уткнул нос в землю да так и присох. А когда через какое-то время, не вытерпев, поднял голову, то прежде всего увидел освободившееся от туч звездное небо, а над степным горизонтом — тускло светивший огрызок луны. Глянул в сторону. Вдоль одного из обрывов — шеренга людей, одетых во что-то светлое. В нескольких шагах напротив — другая шеренга, в темном.
Раздалась какая-то неясная команда. Темная шеренга как бы встряхнулась и снова замерла, а со стороны светлой хрипло раздалось:
— Кого, солдаты, убиваете?! На кого руку под...— и сразу же опять тот же резкий, как свист бича, голос:
— Замолчать! Взво-од! По совдеповской своре залпом... пли!
От залпа Алешка даже не вздрогнул. Закостенел, сжимая былки травы. Не услышал, как бросились бежать Андрейка и остальные ребята. А он убежать не мог. Почему-то ему нужно было увидеть всё. До конца.
На краю обрыва осталось только несколько неясно белеющих фигур.
— Па-ла-чи! Не долго вашей...
— Взвод!..
Опять залп. Но над обрывом еще маячит один шатающийся силуэт:
— ...власти жить осталось!
— Взвод!..
На краю обрыва уже никого нет.., Алексей упал в бурьян и пополз назад. Зацепившись за какую-то сосенку, охватил ее липкий смоляной ствол, прижался к нему и никак не мог оторваться. Еще чего-то ждал и ждал. Может, голоса того человека, кто кричал «палачи!», а может, еще чего? Это забытье внезапно прервали два голоса.
Голоса двигались прямо на Алексея. Он рывком отодрал щеку от смолистого ствола и вжался в землю.
— Я тут, ваше благородие, одно местечко приглядел у-удобственное. Овраг узкий и берега крутые. Туды наопрокидываем, а забросать плевое дело, не то что лопатами, по краям ногами нажать,— так и завалит. И никакой тебе заботы...
— Молодец, унтер! Завтра пригодится... — А чего завтра?
— Головку ихнюю привезем. Понятно? — Как не понять!
Голоса удалились в сторону снова зафыркавших машин.
Алешка встал с земли, когда рокот моторов ушел далеко в степь.
Стало светло. От Сухого лога ветер доносил тяжелый запах полыни. Алексей остался совсем-совсем один и осторожно, медленно пошел к откосу. Зачем? Да и сам не знал. Сразу ничего, кроме измятой травы, не увидел. Но вдруг в ней тускло блеснули гильзы. Он машинально подобрал одну, вторую, а потом увлекся и стал набивать ими карманы. Забегали мысли о том, что теперь у него «патрончиков» будет больше, чем у всех ребят. Уже оба кармана приятно оттягивались от медной тяжести, и он начал собирать гильзы в кепку. Но стали мешать вороны. Они кружились над самой головой, и становилось их все больше и больше. Алешка слышал, что вороны любят таскать блестящие предметы. Может быть, для этого и слетелись?»Схватывая комки земли, он стал бросать ими в нахальных-черных каркалок и не заметил, как оказался на краю обрыва, чуть не сорвался. Глянув вниз, Алексей оцепенел,
В трех шагах, ниже по откосу, из свежего песчаного обвала торчала... человеческая рука. Пальцы на руке то разжимались, то сжимались в кулак.
...Алешка не помнил, как пробежал бор. Все время чудился грозящий из земли сжатый кулак.
Дома, забравшись на сеновал, где всегда спал летом, он выгрузил из карманов гильзы в ящичек для бабок, но не мог ими любоваться. Патрончики вдруг стали противными и холодными пустышками. И не просто пустышками. Ведь в каждой гильзе недавно были порох и пуля. А пулями убивали там, в Сухом логу. Кто убивал? Каратели-колчаковцы. Кого? Раздетых и безоружных людей. Патрончики-то, выходит, подобраны из чьих рук? Из карательских. Таких, как у того клыкастого урядника с кровавой плетью.
От этих мыслей и на сеновале стало душно. Сейчас нужно одно: разбудить отца и рассказать всё-всё.
Будить отца не пришлось. Обнаженный до пояса, он уже вытащил ведро воды и готовился делать свой постоянный «утренний облив».
— А-а, Леш! Встал уже? Иди-ка, полей на спину. Весь правый бок и часть спины у отца стягивали широкие багровые узлистые шрамы — память о спасении Елизарыча на германском фронте. На них Алешка и в обычное время смотрел невольно вздрагивая, а сейчас совсем не мог. Он схватил ковш, но стал лить воду на голову.
Отфыркиваясь, отец прикрикнул:
— Куда, поросенок, льешь? На спину просил. Не проснулся, что ли, еще? — повернул к сыну лицо. Мокрые брови у него строго сошлись:-—Ты что такой? Заболел?
— Н-нет, Мне с тобой нужно сейчас же, сейчас же.., поговорить, Только чтобы никто не слышал.
— Опять секреты?
Отец быстро вытерся, натянул рубаху и кивнул головой в сторону крыльца амбулатории:
— Пошли! — В «смотровой» посадил сына на белый крашеный топчан и сунул подмышку термометр.— Теперь говори.
И Алешка, волнуясь, сбивчиво, скороговоркой рассказал отцу всё, что случилось этой ночью. И еще о том, как плохо и муторно у него на душе, что польстился на гильзы из винтовок карателей.
Отец вынул у сына из-под мышки градусник, посмотрел и встряхнул его:
— Температура нормальная.— Потом свернул папиросу, закурил и сделал подряд несколько глубоких затяжек.— Увидел ты, Алексей, такое, что всю жизнь не забудешь. Но было бы еще страшнее, если б ты ошибку не осознал и ненависть свою к палачам и угнетателям на медные пустышки променял. И насчет гильз вывод правильный. Кстати, у тебя их много?
— Не знаю, не считал.
— Принеси все.
— Зачем? Выбросить, так я и сам,
— Теперь-то уж зачем выбрасывать? Пригодятся, Их, брат, и во второй раз зарядить можно. Расскажи-ка еще раз, вспомни точно, что говорили о «головке» офицер с унтером.
Алешка повторил.
— Что ж, посмотрим. А ну-ка, Леша, помоги побыстрее в легкий ходок Карьку запрячь.— Взял из шкафчика несколько больших марлевых салфеток и подал сыну.— А в них все гильзы в узелок закрути и под сидение засунь. Давай, сын. Кру-гом! Выше нос.
Уже около ворот, сидя в плетеном коробке и разбирая вожжи, отец поманил к себе Алешку:
— О Сухом логе забудь и больше туда ни шагу. Ясно? Закрой ворота.— И, выехав на дорогу, хлестнул Карьку кнутом, чего никогда не делал. Карька обиженно вздернул хвост и сразу взял крупной рысью.
Алешка весь день ходил сам не свой. «Выше нос» никак не получалось. Верно, после разговора с отцом
стало немного легче, но... всё время грызла мысль, о которой он даже отцу не сказал: «Трус он или не трус?»
Сразу выходило, что на труса не похож. Все ребята поубегали, Андрейка даже на сеновал не вернулся. Наверно, к себе домой так и рванул. А он, Алексей, остался. До конца остался. Но потом-то все-таки душа в пятки ушла?
Вот сегодня ночью там, в Сухом логу, будут опять... И, может, так же засыплет песком кого-нибудь, а он еще будет шевелиться... Еще бы и встать мог, а сил нет. И никто, никто ему не поможет.
Значит?
И Алешка нарушил отцовский запрет.
...Когда кончился бор, так же, как и вчера, пахнуло полынным ветерком. Тускло светила та же ущербная луна. Начался знакомый мелкий сосновый подлесок. Где-то совсем близко и первые овраги. Алексей стал оглядываться, где среди подлеска удобнее выбрать место, чтобы залечь, но справа качнулись сосенки и мелькнула чья-то тень. Он кинулся влево... и там кто-то был. Жесткая тяжелая рука схватила его за плечо, придавила к земле, и он услышал недоуменное восклицание:
— Так это ж парнишка, язви его! Ты тут что ночью шныряешь, а?
Рядом второй голос полушепотом:
— Чего орешь! Парнишка не парнишка, тащи, к начальству — разберутся.
Рука легко оторвала Алешку от земли, поставила на ноги, и первый голос зашипел в самое ухо:
— Только без реву шагай, иначе...
Алешка, втянув голову, зыркнул вверх. Над ним высилась фигура мужика в армяке с винтовкой за плечами. Сторож?!
— Дяденька, отпусти!.. Я не на бахчи, ей-богу не на бахчи.
— Замолчь, шпионыш! Каки-таки бахчи выдумал? Топай!
Почему-то сторожей, как показалось Алешке, был полон подлесок. То и дё'ло кто-нибудь тихо окликал их: — Кто? — И Алешкин сторож отвечал:
— Свои. К Ивану Петровичу.
Наконец они спустились в овраг и подошли к группе людей.
Мужик подтолкнул к ним задержанного:
— Так что постороннего парнишку в лесу прихватили. Отпущать или как с ним?
Человек в солдатской форме задал вопрос:
— Откуда заявился?
— Из Гулыбинки...
— Чей? Фамилия, имя?
— Багров... Алексей... Кто-то из группы перебил:
— Дмитрия Павловича сын?
— Его...
Спросивший что-то зашептал на ухо солдату. Тот хмыкнул и уже другим тоном спросил:
— Может, батька за чем сюда послал?
— Нет, он наоборот... Солдат резко оборвал:
— А если наоборот, так тебя, шельмеца, выпороть надо! Чтобы не- лез, куда не просят. Так отцу и передай. А теперь...
Но что теперь делать Алешке, он так и не досказал. Сверху раздался голос:
— Едут!
Все стали взбираться вверх по откосу. Алешка — тоже. По степным увалам, как и в прошлую ночь, зарыскали лучи огненных глаз, но только на этот раз их было не шесть, а четыре. Кто-то стукнул Алешку по затылку:
— Ты куды нос высунул! Иван Петрович, что с парнем делать? 81
Солдат обернулся:
— Стукалкин! Ты привел, тебе и цацкаться. Отведи по логу в тихое место и до конца с ним будь. Гляди, чтоб не задело ненароком. Остальные по местам!
Стукалкин вцепился в Алешкино плечо, спихнул его на дно оврага и бегом поволок куда-то в сторону. Потом свалил на землю и лег рядом:
— Вот навязался ты на мою шею! Тут сейчас такое дело, а меня при тебе заместо няньки определили. Да будь ты мой — так бы приголубил!— И, сорвав злобу, уже как-то подобрее заговорил: — Ты только не трусь. Ежели уж так пришлось...
— А я и не трушу.
— Да, видать, парень ты рисковый, одна беда — шалопутный!
Над головами метнулись две светлые полосы. И где-то недалеко заурчал и затих мотор. Стукалкин теснее прижал Алешку к земле и тихо сказал:
— Теперь, паря, смирно. Скоро зачнется...
Еле слышно до них доходили чьи-то неясные голоса, обрывки команды. У Алешки глухо стукало сердце. Длинное томительное ожидание оборвал призыв:
— То-ва-ри-щи, ложись!!
И сразу же началась густая частая стрельба. Стреляли там, где остался Иван Петрович, стреляли и со стороны леса. Кто-то отчаянно завыл,- кто-то орал: «В оборону!», кто-то ругался и захлебнулся в крике: «Всех перест...!»
И так же все внезапно кончилось.
Стало тихо.
Так тихо, что был слышен далекий-далекий коро-стелиный поскрип.
А потом снова донесся суетливый переклик голосов. Стукалкин вскочил на ноги.
— Покончили, кажись! Ты теперь, парень, домой чеши. Чтоб пятки об затылок хлопали! Прощевай! — и он бегом бросился по логу.
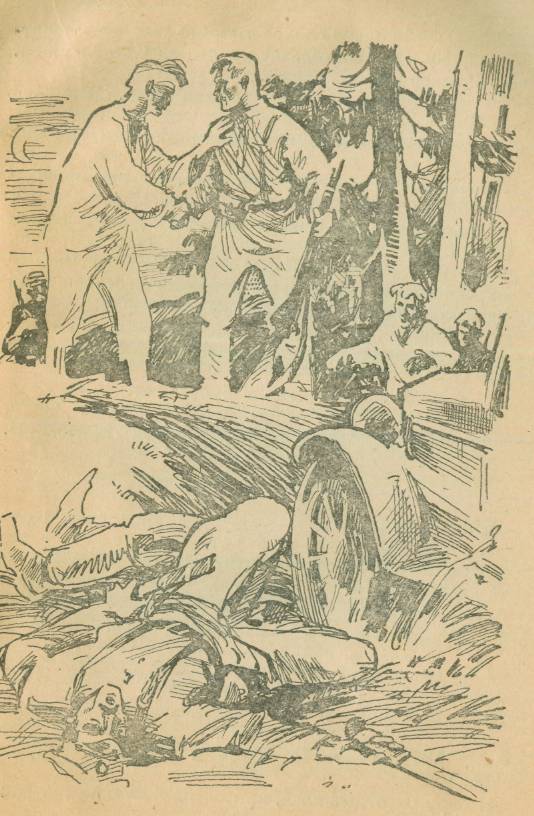
Но Алексей только сделал вид, что убегает в обратную сторону. Он проскользнул вслед за Стукалкиным. Вскарабкался на край обрыва.
Возле автомашин шла непонятная суета. Слышался голос Ивана Петровича:
— Дегтяров, Ломакин! Заводить моторы! Оружие и одежду грузить во вторую машину. Скорее, скорее, товарищи! Переодеваться — на ходу. Группе прикрытия отходить лесом, а там на подводы! Сели? Трогай!
И, как во сне, все исчезло: и опять заурчавшие автомобили, и вооруженные мужики, и Иван Петрович, и рукастый Стукалкин. Будто и не было ничего. Но оставался крутой обрыв, и там, где стояли машины, на песке были какие-то неясные серые бугорки. Вокруг стояла тишина и никого, никого не было видно. И Алешка, замахав руками над головой, закричал на всю степь:
— Ура! Спасли! Надавали контрикам!
Так вот они какие — партизаны, о которых часто, хоть и негромко, говорили между собой гулыбинцы. Вот они какие! Вот кто так здорово бьет карателей— анненковских голубых улан! У них даже шоферы свои есть.
Кричать от радости и махать руками Алешке стало мало. Надо было куда-то бежать, кому-то рассказать обо всем. А кому? Конечно, отцу. Пускай накажет, пускай делает, что хочет... И Алешка рванулся через подлесок на просеку, к дому. Но на бегу среди сосенок со всего размаха споткнулся о какое-то бревно и растянулся. Чертыхаясь, поднялся. Глянул и понял, что это было за бревно. На земле неподвижно вытянулся колчаковец в черной форме, с блестящим перекрестком ремней на спине. А около мертвеца лежал... наган. Самый настоящий, отливающий металлическим блеском... Алешка схватил наган и скачками кинулся дальше. 84 В бору он отдышался, присел на пенек и стал рассматривать свою добычу. Ему очень хотелось покрутить барабан, взвести курок, выстрелить. Нахлынули мечты: во главе отряда партизан он с наганом в руке несется на лихом коне на карателей-анненковцев, а они бегут врассыпную прося пощады.
С заблестевшими глазами Алешка взмахнул наганом и.., увидел отца.
Он стоял на просеке в трех шагах.
Алешка даже не удивился. Так ему хотелось, чтобы отец был сейчас рядом.
— Па-ап! Спасли их! Понимаешь, всех спасли! — И уткнулся отцу лицом в грудь.
Отец спокойно отобрал у него наган.
— Не послушался все-таки?
— Не мог я, пап... никак не мог... А вдруг они снова кого-нибудь завалят, а он еще живой. Вот бы я и... потом тебя позвал бы, а ты перевязку...
Отец взял его за руку:
— Пошли домой.
Когда они пришли, все в доме еще спали. И отец совсем неожиданно пробурчал, как бабушка Мотя:
— Иди-ка на сеновал. Я тебе хлеба и молока из погреба подам. Поешь и спи.
Выспавшись вдосталь, сколько мог, Алешка слез с сеновала и удивился: солнце пошло уже книзу, а ни мать, ни бабушка Мотя его не разбудили.
Первое, что захотелось,— поесть. Второе —увидеть Андрейку. И когда за обе щеки уплетал лапшу, он спросил мать:
— Андрейка не приходил?
— Второй день не прибегает. Ладно ли у них? Завтра буду в городе, зайду узнаю.
Но назавтра пришел Андрейка сам. Пришел хмурый. Забравшись на сеновал, долго молча обкусывал сухую травинку, а потом угрюмо буркнул:
— Еле отпросился у мамы. Попрощаться пришел. --~ Это с чего?
— Уезжаем.
— Куда?
— Не знаю. Ночью отцов товарищ, дядя Василий, приходил, маме сказал, а я слышал: «Срочно вам уезжать надо, пока не поздно. Контрразведка колча-ковская решила заложников брать. В первую очередь—семьи членов Совдепа... И вас,— говорит,— Зинаида Федоровна, с парнем придется переотправить в надежное место». Мама-то впоперек. «Никуда от Тимофея не поеду. Кто ему передачи носить будет?» А дядя Василий снова ей внушительно, как учитель в классе: «О Тимофее Максимовиче беспокоиться перестаньте. Слух прошел, что от него вам на новое место и весточка придет». Мама к нему: «Рассказывай все, что знаешь!» А дядя-то Василий руки выставил вперед, как загородился: «Не допытывай, Федоровна, все одно не скажу». Я до утра не спал, думал: может, мать пускай едет, а мне остаться? — Андрейка со вздохом, тяжело добавил: — Батя-то ведь тут. А что дядя Василий маме говорил, все это, может, так... чтобы успокоить, чтоб не плакала... Я уж и к Елизарычу на базар забегал, хотел посоветоваться. К нему жить попроситься, чтобы к бате ближе. А его и нету,
— Как нету?
— А так: ни аппарата, ни костюмов, ни его самого. Только палки от навеса торчат. Стал спрашивать, говорят: «В другой город, наверно, уехал, где заработки лучше». И почему так быстро собрался? Вот и думаю...
Выговорившись, Андрейка стал смотреть в одну точку, Алешка тоже задумался. Потом подвинулся поближе к другу:
— А без мамы как жить будешь? Брось, она все-таки лучше тебя знает. И дядя Василий тоже.— А потом вздохнул и попросил: —Ты оттуда, куда приедете, если можно будет, письмо напиши. Ладно?
Вот они какие!
С наступлением зимы в Гулыбинке все чаще и чаще пошли,
как их называл про себя Алешка, «плакучие» ночи. После каждой из них в каком-нибудь доме, а то и в двух — в трех надрывно выли бабы и хором плакали ребятишки.
Над крышами этих домов подолгу не появлялись дымки. Скрипели на ветру распахнутые створки ворот. Алешка сам видел, как в таких избах, среди переворошенных вещей, сидели, тупо уставившись в нетопленые печи, сразу постаревшие, простоволосые матери. А маленькие ребята, размазывая по немытым лицам слезные потеки, тягуче голосили:
— Тятьку уланы у-увели-и!
Гулыбинцы хмуро вздыхали и смотрели злыми застывшими глазами:
— Скоро ль, что ли, уж конец колчакам окаянным будет?
И конец наступил.
...Декабрьским утром по улице до самого конца и обратно на полном карьере пронеслась группа всадников с красными лентами и бантами на шапках, полушубках и косматых полудошках. Гривы, уздечки и хвосты разнорослых и разномастных коней тоже увиты лентами, бумажными розами и лоскутами всех красных оттенков.
Но не успели в поселке удивиться, как в крайней ограде встал грязный столб земли и снега и грохнул снарядный взрыв. За ним второй, третий...
А из бора одна за другой стали выходить большие группы мужиков, растягиваться в длинные ряды и перебегать огородами от избы к избе. И у каждого, так же как и у всадников, на шапках, на груди алели и розовели банты, бумажные розы и ленты.
Алешке показалось, что мужики просто балуют, играют в войну, как играют ребята. Очень уж все были не похожи на настоящих солдат. Винтовок почти не было. Все одеты по-простому, у большинства в руках длинные палки. На палки, как делали и ребята, насажены солдатские штыки, острые наконечники, а то и просто вилы с обломленными боковыми рожками.
В небе над поселком стали появляться светло-серые облачка. От них слышались гулкие удары-—будто огромные хлопушки лопались в вышине.
Отец посмотрел на разрывы облачков.
— Шрапнелью белые бить начали,— и повернулся к сыну.— Марш домой!
Алешка не успел выполнить приказ. Мимо них из дома выскочила бабушка Мотя.
— Ах, аспиды, надумали что!—она побежала к коровнику. Отец бросился за ней:
— Мам, куда?
Но бабушка только отмахнулась на бегу.
На огороде возле коровника два мужика деловито разбрасывали пиками стожок соломы. Бабка зашумела на них:
— Вы чего, черти ряженые, делаете? Чем вам солома помешала?
— Не мешай, баушка, видишь, война. Дуй-ка на печь.
— Да воюйте, сколько влезет, а солому не швыряйте!
— А может, тут у тебя пулемет спрятанный!
— Сам ты спрятанный. Бери вилы, сметывай обратно! — И бабушка сунула в руки растерявшемуся мужику вилы, выдернув у него пику.
Алешка схватил в испуге отца за рукав;
— Пап, так он бабушку сейчас...
Но отец только захохотал: — Ну мама! Сзади раздался голос: — Аи да старуха! Командир, а не бабка. Так бы
взводным и взял. Мокрушин, выполняй приказание— сметывай обратно!
Отец и Алешка обернулись на голос. Перед ними стоял бородатый солдат в аккуратно перехваченной ремнями шинели. Солдат вытянулся перед отцом и приложил руку к папахе с нашитой на ней красной полоской:
— Честь имею явиться, Дмитрий Павлович! Не узнаете?
— Вы?!
— Так точно, собственной персоной. Жив, здоров, чего и вам желаю. Разрешите представиться: начальник штаба полка партизанской армии.
— Да как же это вы? То за решеткой у Колчака» то сразу —начштаба?
— Будто так и не знаете ничего? Сейчас недосуг насчет вопросов, Дмитрий Павлович, а вот через полчасика передышка предстоит. Ждите со штабом обедать. Еще старых знакомых увидите,— И солдат быстро зашагал через огород.
— Папа, а это кто?
— Сам же слышал: старый знакомый. А бабушка Мотя, глядя вслед партизанскому команд диру, уважительно сказала:
— Сразу видно, что человек самостоятельный. Не то, что эти... ряженые.
Отец подхватил ее под руку:
— Пошли, мама, для этих «ряженых» обед готовить. Человек эдак на.., пятнадцать.
Бабуся ахнула:
— На пятнадцать?! Да где ж я наберусь...
— Ничего, что-нибудь придумаем...
Об Алешке забыли. Притаившись у коровника, он стал смотреть, что происходит вокруг в поселке.
На соседской повети стоял в полный рост человек в косматой папахе, с красной лентой через плечо. Он смотрел в бинокль и махал рукой. Внизу, около повети.
топталось несколько мужиков. И то один, то другой, по взмахам командира, нагибаясь, убегали в разные стороны.
Где-то между поселком и городом шла ружейная и пулеметная стрельба, а в небе одна за другой продолжали с грохотом рваться белые хлопушки. В дом через улицу двое партизан притащили третьего. На снегу остались красные пятна. Потом пронесли еще одного, еще...
Из ограды Ильки Осипова выскочила на улицу и тут же упала телка. К ней с причитанием выбежала мать Ильки и начала ставить на ноги. Но у телки заваливалась в сторону голова, она не хотела подниматься. Кто-то из партизан кричал: «Уходи, баба,— убьют!» Но мать Ильки не уходила.
На короткое время стало совсем тихо. И совсем не к месту и не вовремя тишину нарушил знакомый птичий свист. В дальнем углу огорода, где Алешка в кустах репейника всегда ставил свои клетки-ловушки, на сухой ветке невозмутимо сидел крупный снегирь, красногрудый, как тот командир в косматой папахе, который смотрел в бинокль и подавал знаки партизанам. Снегирь снисходительно поглядывал на прыгающих рядом вертлявых чечеток и как ни в чем не бывало, как будто не было ни стрельбы, ни шрапнельных разрывов, важно, свысока подавал короткие свистки. Добыча была очень заманчивой. Алешка хотел уже бежать за клеткой, но около соседской повети опять стало шумно. Он решил оставить на свободе важного снегиря и пробираться поближе к командиру с красной лентой.
Помешал голос матери:
— Алеша, Алеша, где ты? Иди сейчас же домой! .
Мать втолкнула Алешку в угловую комнату, приказала для чего-то лечь на пол к стенке и не подниматься, пока она не разрешит, закрыла дверь и ушла на кухню помогать бабушке. На пол Алешка, конечно, не лег, а, подышав на лед на оконном стекле, оттаял дырочку и стал глазеть на улицу. В отверстие ничего не было видно. Алешка, обозлившись, стал отковыривать лед и колупал до тех пор, пока не треснуло стекло. Нужно было находить другое занятие? В это время соседняя комната наполнилась топотом ног, гулом голосов и громких радостных восклицаний. Алешка приоткрыл дверь и выглянул. В комнате, вокруг двух составленных столов, теснилось множество людей. Все вразнобой что-то шумно говорили, а отец, подхватив под мышки, тискал какого-то низенького дядьку в короткой полудошке. Тот на весу болтал ногами и кричал:
— Отпусти, медведь,— задавишь!
Около них стоял и широко улыбался давешний солдат, кругом толпились остальные гости и довольно орали:
— Брось, хозяин, а то у комиссара кишки выдавишь!
Низенький, вырвавшись из отцовских рук, бросился к матери и тоже стал с ней обниматься, и мать почему-то заплакала, а тот уже подбежал к бабушке.
Бабушка ткнулась ему в плечо, потом сразу же оттолкнула:
— Живой, вертучая твоя душа! Ин и ладно. Вы тут обнимайтесь, а мне это войско кормить нужно.—И бабуся быстро ушла в кухню. А Алешка хорошо знал, что если баба Мотя быстрее, чем всегда, убегает к плите, значит, чем-то взволнована.
И только когда необычные гости, не снимая шуб, стали рассаживаться за столом, Алешка узнал в низеньком человеке... Андрейкиного отца Тимофея Максимовича! Узнал и подбежал к нему.
Тот подхватил и прижал его к себе:
— Алешка! Вырос-то как. Моего Андрейку я еще повидать не успел. Наверное, тоже здоровенный вымахал. Ну, да теперь скоро опять все вместе будем!
На столе появились два больших таза с горячей картошкой. Наступило затишье, и стало слышно, как па кухне бабушка кого-то допытывала:
— Ну, воюете, ну, колчаковцев гоните, а букеты понацепили, как на масленицу ряженые, для чего?
Чей-то бас ей ответил:
— Так вить, бабка, тут праздник почище масленки. Город брать идем!
За столом засмеялись. Обжигаясь картошкой, солдат в ремнях говорил:
— Ну, я-то еще так-сяк, а ведь сознавайтесь, Дмитрий Павлович: когда помогали нам из Сухого лога живыми выскочить, не думали, что комиссара нашего— старого дружка своего вместе с другими выручаете?
— Откуда же знать было? Да я-то, собственно, ни при чем. Съездил, сказал. Вот и вся заслуга. Тут выручка не моя.
— Не скромничайте. Если бы не вы... Отец прервал:
— Вот он, это самое «если бы»,—и показал на сына.
— О-он?! —и на Алешку уставился десяток глаз. Он смутился и убежал в угловую комнату. Отец что-то стал рассказывать, а Алексей прижался к шкафу и зашептал: «Ну, зачем, зачем... разболтался!» Из-за дверей донесся чей-то громкий, очень знаковый голос:,
— А мне картошки оставили?
Все, как по команде, стихли, а потом зашумелю
— Оставили, оставили! Проходи, пока горячая, Алешка открыл дверь и замер на пороге: в косматой папахе и красной ленте через плечо в комнате стоял Иван Петрович.
Тот тоже сразу его узнал и, обращаясь к Тимофею Максимовичу, сказал:
— Видать, в этом доме и у меня знакомые нашлись.— Нахмурил брови и строго спросил" — Ну, храбрец, передал отцу мой приказ, чтобы выпорол?,
Алешка опустил голову и не ответил. Тимофей Максимович, освобождая вошедшему рядом место, вступился: '
— Тут, пожалуй, парню, Иван Петрович, вместо наказания другое нужно...
Алешка прошмыгнул на кухню и не слышал, что говорил дальше комиссар командиру. На кухне несколько партизан тоже пили чай, в углу стояли ружья и какая-то обмотанная пика.
Бабуся сунула ему в руку, картошку:
— Опять нашкодил? За что порку посулили? Один из партизан, широкоплечий мужик, дуя в блюдечко с горячим чаем, добродушно произнес:
— А без этой самой порки и росту не будет. Меня батя, покойничек, по три раза в неделю утюжил, ничо — рос подходяще. Вон какой выдубил.
Продолжать разговор на эту тему, к удовольствию Алешки, не пришлось. На улице резко зацокали подковы, и в двери ввалился еще один партизан, в пушистой заячьей шапке:
— Вон они где чаи гоняют! Здравствуй, Алеша! Не узнаешь? — Партизан сдвинул шапку со лба, и в такой богатый неожиданностями день пришла еще одна: перед Алешкой стоял Елизарыч.
Так вот на какие «заработки» уехал он из города! Алешка было бросился с вопросами, но тот его легонько отстранил:
— Погоди маленько. Тут, брат, дело военное.— Прошел из кухни в комнату.—Товарищ командир полка! Пакет от командующего. Доставил разведчик-связной Корнев.— И по-солдатски приложил ладонь к заячьему треуху.
Все шумно начали вставать. Иван Петрович принял от Елизарыча «пакет» — сложенную вчетверо записку и, пробежав ее глазами, спросил:
На словах что-нибудь передать приказано?
— Третий полк к вокзалу вышел, так что и вам в наступление-—без задержки.
— Наконец-то! Ну, что же, товарищи, поблагодарим хозяев за хлеб-соль да и, как поется,— в последний, решительный... До темноты надо управиться. Так, комиссар, что ли?
— Так. Только не забудь, о чем говорили.., — Да не до этого сейчас...
-— Много времени не займет.
— Ну, ладно.— И командир приказал солдату в наплечных ремнях: — Ну-ка, построй быстро штабных с выносом знамени. Делай!
Тот сразу подал команду:
— Знамя расчехлить! Выходи строиться!
Один из партизан схватил стоящую в углу на кухне пику и стал на ходу разматывать с нее парусину. Иван Петрович подошел к Алешке и взял его за руку:
— И ты, храбрец, пойдем с нами.
Алешка сжался и заупрямился. Но Тимофей Максимович подтолкнул его:
— Не трусь, будь мужчиной, ц
А Елизарыч тихо загудел на ухо:
— Тут, брат, фотография, видать, четкая предвидится. В седло садить тебя будут. С охлюпкито. Помнишь, а?
Алешка зажмурился, вдохнул полную грудь воздуха и шагнул через порог. В ограде перед крыльцом ровной шеренгой стояли партизаны. Правофланговый держал развернутое красное знамя.
Начальник штаба скомандовал:
— Смирно!
Иван Петрович поставил Алексея впереди знаменосца, отступил на два шага и громко, четко произнес:
— За проявленную храбрость и находчивость в спасении наших товарищей от расстрела карателями объявляю благодарность перед партизанским строем при знамени Алексею Багрову и награждаю его нашим
партизанским знаком —Он снял у себя висевший рядом с лентой красный бант и приколол его на грудь Алешке.
Оглушенный происшедшим, Алешка не чувствовал, как его обнимали, целовали отец, Тимофей Максимович, Елизарыч.
Словно через ' подушку до него дошло дружное «ура!» Партизаны, уходя, махали ему рукавицами.
Алешка круто повернулся, распахнул дверь, вбежал в дом и, совсем как маленький, забрался на самое спокойное на свете место—-на бабушкину кровать. Всегда все понимающая бабушка Мотя бросила кухонные дела и села рядом:
— Что, шибенник, выслужился? Фу-ты, ну-ты, кавалер с бантом! — И поскребла по затылку шершавыми пальцами.— Ничего, я тебе сейчас горячего молока дам.
Алешке казалось, что все это чудесный сон, и никак не хотелось просыпаться. Отец и мать увидели, как сын осторожно протянул руку к плечу. Нет, не сон! — Вот он, такой яркий на его мальчишеской груди красный партизанский бант.
Не сон...
Новосибирск — Барнаул 1971 г.
Оглавление
Найденное детство {от автора) ...................... 3
Шишка контрику .......... 6
Балалайка без струны ........ 10
Суворовский удар .......... 16
Выходит, попался!.......... 27
Конь и зверь............ 33
У зулусов . , ,.......... 40
Ведьма с колчаковским флагом..... 45
В седле или охлюпкой?........ 48
Патрончики.....,....... 59
Приговор без слов.......... 66
Сухой лог............. 74
Вот они какие!........... 87